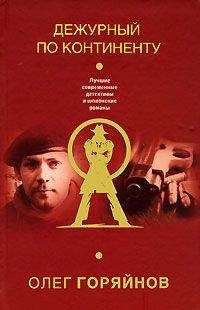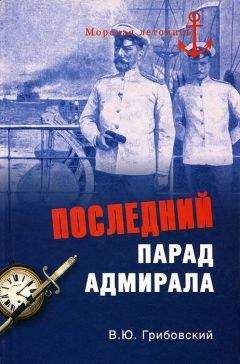Борис Горин-Горяйнов - Федор Волков
Ее величество и ее высочество должны были сознаться, что ничем.
— Значит, сам собою выдвигается русский сюжет, — продолжал Сумароков. — Теперь о музыке. Мы не имеем пока русских композиторов. Но оное препятствие легко обойти. У нас есть синьор Арайя с его всеобъемлющим талантом. По чистой совести полагаю, что он отлично справится и с русским сюжетом, как справляется с любыми прочими.
Федор Волков слегка улыбнулся. Арайя не боялся за себя, но он был честным музыкантом, а потому с сомнением покачал головой.
— Дорогой синьор Сумароков, — сказал он, — дело немного не просто. Мне трудненько говорить по-русски, но попытаюсь. Есть две музыки: музыка поверх и музыка глубоко. Большая борода, длинный кафтан, пляска с лаптями, просто народни мотивчик, балалайка — это поверх. Русски дух, русски печаль, ну, русски отсюда, — он постучал себя в грудь, — это глубоко… Ну, я в затруднительности, как сие выразить…
— Мы вас понимаем, синьор Арайя, — улыбнулась Екатерина. — Ведь, понимаем, государыня, не правда ли?
— Разумеется, понимаем. Что же здесь непонятного? Глубокое сердце Арайи не лежит к русским лаптям и балалайкам.
— О, ваше величество! Можно ли так думать о бедни музыкант? — искренно огорчился итальянец. — Я хотел сказать: музыку поверх, легки музыку — Арайя сочинит в три дня. Музыку из сердца, глубоки и серьезни музыку на русски лад — увы, не сочинит никогда. Арайя недостаточно русский для того… Арайя музыкант вообще, но не национальный.
— Ее величество именно это и имеет в виду, синьор Арайя, — успокоила итальянца Екатерина. — Я сама мало понимаю в музыке, но знаю людей, которые в этом понимают. К примеру, граф Алексей Григорьевич.
— Я? — удивился Разумовский. — Я люблю слушать музыку, но не думать о ней. Да и зачем? Когда о музыке думаешь, она перестает быть музыкой.
— А я знаю людей, которые и думали об оной много, а все же для них она не перестала быть музыкой. Эти люди, как и граф Алексей, очень близки к русскому народу. Как ваше мнение на сей счет, Федор Григорьевич? — обратилась Екатерина к Волкову.
Волков несколько секунд молчал, чтобы собраться с мыслями. Он уже давно обдумал этот вопрос. Слова сами просились на язык, требовалось только сделать их убедительными. Он начал:
— Мне приходится говорить о деле, коему у нас еще не было примеров. И говорить перед столь высокими слушателями. Музыка не моя область, но я ее чувствую и занимался ею. Почитаю, что музыка — это есть выражение в звуках музыкальных души народной, ее страданий и радостей. Всякий напев — голос сердца нашего. Дабы голос был верен, необходимо самому испытать состояние, кое он выражает. Каждый народ, каждая нация, каждое сословие понимает жизнь по-своему и по-своему ее переживает. Передадим мы правильно эти переживания — и мы будем иметь основу музыки национальной. Возможно подойти к делу и инако: подражать виденному и слышанному поверхностно, не переживая, не углубляясь в причины, его породившие. Это тоже будет музыка, но музыка фальшивая, поддельная. И подобная музыка многим способна нравиться больше. Она легка, как ветерок скользит по поверхности, не задевая глубоких струн сердца. А те, будучи задеты глубоко подлинным чувством, часто отзываются весьма болезненно во всем существе человека. Вызвать сию по-своему приятную боль, боль возвышающую и очищающую душу, может только подлинная правда жизни, перенесенная в искусство музыки — как, впрочем, и во всякое иное искусство, наипаче же в искусство драматическое, во многом родственное музыке и из нее рожденное. От каждого человека-артиста мы можем требовать только того, что он приобрел и накопил в течение своей жизни, что может передать на основании воспоминаний о пережитом, перечувствованном, добытом из опыта. Жизнь каждого народа слагается по-разному. По-разному же слагаются и характеры людей разных состояний. Рожденному под лазурным небом Италии трудно проникнуться красотами неба северного, скучного и хмурого, редко радостного. Но мы, рожденные под этим унылым небом, находим в нем такие красоты и очарования, лишение которых подчас бывает для нас равносильным отчаянию и смерти. Итальянец тщетно будет искать в наших радостях причин, их вызывающих. Он их не найдет. Его собственные радости вызываются причинами иного рода. Тако ж и касательно страданий, — глубоких, потаенных, подавленных, избегающих вылезать наружу. Они вызываются общим укладом нашей жизни и глубокого прячутся от посторонних глаз. Кто их не пережил, не сделал своими, тот не сможет ни постичь их, ни почувствовать, ни тем более передать средствами искусства. Мне кажется, я понял правильно сомнения синьора Арайи, когда он, говоря о глубине национальной музыки, указывал на свое сердце.
— Так, так, так! — кивал головою итальянец. Волков продолжал:
— Я преклоняюсь перед изумительным дарованием синьора Арайи. Но я не могу требовать от голубого неба, чтобы оно стало свинцово-хмурым. Синьор Арайя весь соткан из звуков чарующих и нежных, порою страстных и возвышенных, порою веселых и беззаботных, но всегда выражающих душу синьора Арайи и его народа. Синьор Арайя не найдет достаточный для творчества запас красот музыкальных в веками придушенных страданиях народа русского, которому и самому причины, вызывающие его страдания, не всегда бывают ясны. Талант синьора Арайи справится с оперой на любую тему, из любого века, из любого быта. В этом не может быть сомнений. Но это будет всего лишь синьор Арайя — торжественный, светлый и радостный, как небо. Наше небо не таково, не небо синьора Арайи. Под ним необходимо вырасти, поднять на плечах всю его свинцовую тяжесть, приспособиться обращаться с ним так, чтобы оно не задавило. Допустим, синьор Арайя сочинит музыку на национальный русский сюжет. Мы не сомневаемся, что это будет, как всегда, великолепная, чарующая, изумительная музыка, достойная таланта артиста. Но она будет лишь музыкой условной, выражающей общепринятыми звуками предполагаемые чувства и переживания. Выстраданных переживаний, подлинных живых людей в ней не будет, а значит — и не будет ничего национального. Перемените слова, перенесите действие в другой век и страну — музыка все же будет годной, потому что она — музыка вообще, музыка, обходящая сторонкой живых людей с их горестями и радостями и заменяющая их людьми, созданными фантазией, искусством гения, людьми никогда не бывшими, с чувствами надуманными и только воображаемыми. Говоря о национальной музыке, об искусстве национальном вообще, мы тем самым говорим о жизни человека и о подлинных его чувствах. Такой музыки, такого искусства мы пока не имеем. Не имеем не только людей, способных справиться с этой высокой и почетной задачей, но не имеем еще и зрителей, способных понять подобное искусство. Это — область будущего. Поэтому вопрос о сюжете я почитаю безразличным. Все едино, любой сюжет будет выражен средствами существующими, общепонятными, и выражен с одинаковым блеском, свойственным синьору Арайе в его области, а господину Сумарокову — в его. Это все, что я почитаю должным сказать с милостивого разрешения вашего величества и вашего высочества.
Волков замолчал. Во время речи он оживился, загорелся. Голос звучал сильно и убедительно.
Императрица, немного близорукая, сидела полуоткрыв рот, не двигаясь и не сводя лорнета с лица Волкова. Едва ли она многое поняла из сказанного, но убежденность тона Волкова заметно подействовала на нее. Екатерина ласково улыбалась; она была весьма довольна произнесенной речью. Елизавета опустила лорнет, нагнулась к великой княгине и сказала вполголоса по-французски:
— Оказывается, есть же у нас умные люди. Он совсем профессор, это ваше дитя природы.
— Да если поискать, их найдется достаточно, государыня, — также по-французски ответила Екатерина.
— Вы сами не сочиняете русской музыки? — спросил Волкова Разумовский.
— У меня для сего недостаточно знаний и нет таланта, ваше сиятельство, — отвечал Волков.
— Пустяки! Я полагаю, и то и другое найдется, коли покопаться, — сказал, зевая, Разумовский.
— Государыня также желает знать и ваше мнение, господа, — обратилась Екатерина к присутствующим.
— Мое мнение таково: если мне не скучно, значит, все хорошо, — улыбнулся Разумовский.
Нарышкин покивал головой на слова графа. Арайя высказался коротко:
— Синьор Волков говорил правильно. Всему свое время.
Сумароков, приготовившийся было отстаивать свое первоначальное мнение, нашел взгляды Волкова разумными и полезными для себя. Он сказал:
— Нахожу мнения моего юного друга Федора Григорьевича отменно превосходными во всем. И сознаюсь, для меня они приоткрывают часть завесы, за которой скрыта истина искусства.
В результате совещания выбор сюжета для первой оригинальной русской оперы был предоставлен на усмотрение Сумарокова и Арайи. Они сговорились на мифологическом сюжете из «Превращений» Овидия. Сумароков вскоре написал лирическую драму «Цефал и Прокрис», а Арайя — музыку к ней, предварительно попросив русский текст перевести ему по-итальянски.