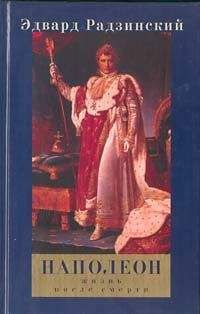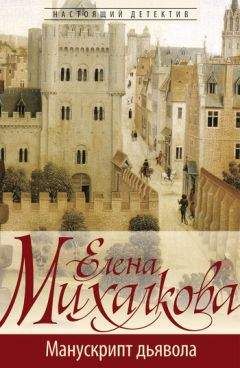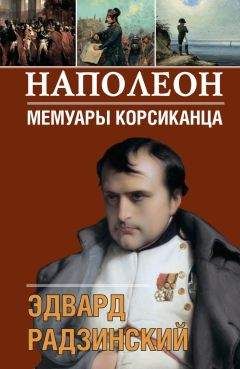Эфраим Баух - Пустыня внемлет Богу
Голоса:
— На мать похож… на мать…
— Положим. Но где он был, откуда явился и с какой стати мы должны ему подчиниться лишь потому, что он показывает цирковые номера, а ты, дядя Аарон, их объясняешь? И ради этого мы должны рисковать не только собой, но и нашими женами и детьми, умереть в пустыне, где василиски и скорпионы, голод, жара и холод, оставить крышу над головой и горшки с мясом? Я был в пустыне и знаю, что это такое.
— О чем ты говоришь, душа твоя рабская? Ты уже потерял человеческий облик от унижения и пресмыкательства.
— А ты молчи, Йошуа бин-Нун, у тебя нет жены и детей. И ты, Калеб, у тебя в голове ветер. Не знаю, как тебя еще не взяли.
Последние слова явно лишние. Не уклонись Корах от тяжелого предмета, брошенного из темноты зала, не снести бы ему головы.
Шум. Возбуждение. Голоса.
— Не так уж он не прав.
— Как мы пойдем, голыми и босыми?
— Египтяне дадут нам одежду, золото и серебро. Так сказал Господь Моисею, — говорит Аарон.
— Догонят и еще дадут…
— Они захотят от нас откупиться, — говорит Аарон, — они ведь очень набожны и знают, что не всегда справедливы к нам.
— Но мы же безоружны. А в пустыне дикие звери.
— Мы и оружие попросим у египтян. Для защиты от диких зверей, — говорит Моисей. — Мы же должны вернуться невредимыми, чтобы продолжать трудиться во славу властителя страны Кемет.
При словах об оружии зал словно бы вымер.
И тут к Моисею подбегает на кривых подгибающихся ногах испитой, худосочный старик, трясясь в истерике:
— Я слежу за ним давно…
Моисей вздрогнул: старик явно похож на того избиваемого надсмотрщиком-египтянином, которого он, Моисей, убил сорок лет назад.
— Теперь… когда вот, об оружии… Я понял, — вопит старик, — я понял! Это дешевый провокатор. Он заставляет нас подписать самим себе смертный приговор. Его надо побить камнями насмерть.
Нечеловеческий рев потряс осыпающиеся глиной стены. Толпа кинулась на старика. Глаза его обезумели от видения собственной смерти.
— Остановитесь! — Голос Моисея, к собственному его потрясению, раскатывается подобно недавно прокатившемуся грому. — Растерзав этого глупого, несчастного старика, потерявшего рассудок от страха, вы будете каяться до скончания дней. Бог сказал мне, что со времен потопа Он продолжает каяться, что сотворил человека. И вас Он избрал своим народом, сыны Авраама, Исаака и Иакова, не потому, что вы лучше всех, а потому, что все хуже вас. И еще Он сказал: Моисей, очень много среди твоего народа доносчиков. Так вот, я, Моисей, прошу всех доносчиков — по страху, по принуждению, по доброй воле, по злому умыслу, по несдерживаемому удовольствию сердца, по выгоде — раскаяться в душе своей. Вы уже догадываетесь: молния и гром не случайны. Если кто донесет обо всем, что здесь произошло, молния, змеиный укус, неизлечимая проказа поразят его и его потомков. Бог наш милосерден, но жесток и неумолим к предателям.
И зал качнулся единым выдохом:
— Моисей и Аарон, мы с вами!
И вспомнил Моисей единоутробный крик тысяч жителей страны Кемет в ночь молений великого Анена в праздник Ипет-су, и дрогнуло на миг Моисеево сердце от этого внезапного и пугающего единства.
Часть третья. Книга Книг
И вечность бьет на каменных часах.
На горе Нево
Могут ли воспоминания в присутствии невидимого, но ощутимого Ангела смерти быть подобными прогулке среди руин, милых сердцу?
Не движение ли это по границе между разочарованием и тоской по прошлому, и граница эта — как стена для слепого, идущего на ощупь?
Так возвращаются через вечность на оставленные в прошедшей жизни места, на тлеющие под пеплом времени островки памяти.
В эти последние часы перед исчезновением мучит Моисея сомнительная двойственность прожитой жизни: вершилась ли в пределах его чувств и восприятий или в мире вне его? Вся реальная доказательность (даже в мелочах) свершившегося не может убедить его в этом.
Что предпочтительней? У других годы юности и зрелости ведут впрямую к власти, и если она не обрывается гибелью в бою или от руки убийцы, завершается позорным старческим бессилием.
К Моисею власть, или нечто подобное, пришла неожиданно, поздно, в единый миг, — необъятной, неотменимой тяжестью. По сей день он не может это одолеть и уяснить.
Разобраться со смертью труднее во сто крат, чем со всем, что выпало на его долю, — быть «пастырем народа Израиля»…
Опять это чуждое, холодное, как прикосновение спящей змеи, как извив остывшей лавы, — «пастырь народа Израиля».
Сорок лет Исхода не дали ему возможности спокойно во всем разобраться: то, что Он возложил Моисею на плечи, и сей миг накрывает с головой, как увиденный им столп вод Тростникового моря, заливающий фаланги фараона.
Ну вот, подступило к горлу время — подвести итоги, а память несет второстепенное, тусклое, дремотное.
Всю жизнь у Моисея время от времени возникало ощущение, что он как бы видит все с ним происходящее со стороны, с горы, но так и не войдет в собственное свое существование, не сольется с ним.
Он прожил жизнь свою в назидание, в пример другим.
Но не саму по себе.
Вот оно — проходящее перед ним время его жизни: одиночество жение масс, днем и ночью — с момента прихода к фараону, прихода к собственной толпе — евреев и пришлого сброда, уход, рев массы, беспомощность ее и требовательность, казни, беды, насилие, василиски, и всё — в голошении, крике, плаче, остервенении, покаянии.
И только сейчас, на горе — возврат в последнее одиночество.
Круг жизни замкнулся. И внезапно — ощущение ненужности всего этого рева, хотя с Ним иного выхода не было и быть не могло.
После пребывания с Ним на высотах Синая, окруженный в низинах массой, все же медленно превращающейся в некое подобие народа, Моисей так и не вышел из облака одиночества — особого, холодного, как прикосновение лезвия ножа, как удушье на разреженных высотах.
Научился в нем существовать.
Временами ощущал, как Он существует в этом, но для Него, вероятно, одиночество — естественное состояние.
Временами ощущал, что для Него главное — насколько Моисей сумеет внедрить в дух этого племени чувство мирового одиночества — бдидут аолам. Моисей знал: племя его будет платить за это непомерно высокую цену.
Но он также знал, что оно, это одиночество, внесет в душу народа бессмертное начало жизни.
И, находясь как бы всегда на грани исчезновения, народ этот будет вечен.
И сохранится силой этого одиночества.
Вспоминает Моисей о своем рождении, о том, что его же мать была его скрытой кормилицей.
Сил жизни он набирался из сосцов запрета, хотя это были сосцы его матери.
Теперь он твердо знает: народу Израиля всегда предстоит получать материнское молоко из сосцов запрета. Это переносимо с трудом или вовсе непереносимо, но именно это сделает этот народ, души которого коснулся Он, вечным и неуничтожимым в гибельном водовороте народов и времен.
Для этого народа сосцы родной матери будут всегда сосцами запрета — это войдет в его сущность.
2Мужчина сотворяет ребенка, видит свое творение со стороны, уже не принадлежащее ему. Как скульптор свои произведения.
И Моисей ощущает в эти последние часы жизни опустошенность творца: он сотворил Исход, вылепил начерно народ, но все это уходит в мир, и неудовлетворенность снедает его, Моисея, душу.
Так оно, верно, и есть: в миг такой опустошенности легче всего покинуть этот мир.
Моисей знает: и тут Он к нему милосерден.
Она необычна, эта опустошенность. В суете человеческой такие мгновения, как праздник совершеннолетия, обручение с женщиной, рождение первенца, смерть, обнажают скрытую, но наличествующую глубокую серьезность жизни, ее высочайший знак. Отсюда — этот внезапный, накрывающий с головой страх, что великое, высокое, единственное уйдет в суету, в ничто.
И, утишая в себе этот страх, вглядывается Моисей с Нево в темень, на юг — в мерцание пустыни, вслушивается в шорох скудных трав, шорох его молодости и лучших часов жизни. Но встают перед ним ущемленные болью непонимания глаза Сепфоры и сыновей: в последние дни, во власти плохих предчувствий, намеренно проявлял к ним отчужденность, уверенный, что так им будет легче перенести его уход из жизни. По чудной наивности своей, они думали, что ему жить еще долго, ибо не завершил же он дело своей жизни.
Следует разобраться, легче ли ему оттого, что сама идея Исхода будет жива, пока жив род человеческий, ибо незавершаема, полна изначальной энергии и какой-то даже детской веры в свое осуществление.