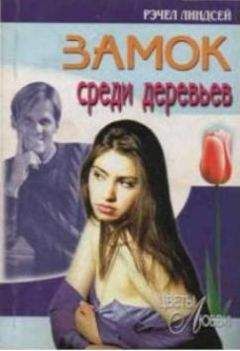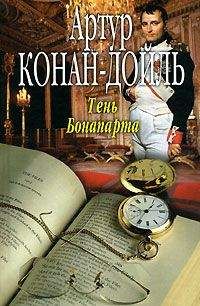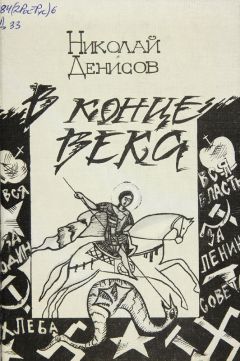Артур Дойль - Тень Бонапарта
Нам дан был рожком сигнал прекратить стрельбу; порыв ветра рассеял окутывавший нас дым, и тут мы разглядели, что случилось.
Я ждал, что половина кавалерийского полка лежит на земле; но то ли французов спасли их кирасы, то ли мы, молодые солдаты, в суматохе выстрелили слишком высоко, только залп не причинил им большого вреда. Около тридцати лошадей лежало на земле, три из них на расстоянии десяти ярдов от меня; средняя лежала на спине, задрав кверху все четыре ноги; одна из этих ног и была тем непонятным предметом, который я видел сквозь дым. Около восьми или десяти человек были убиты и приблизительно столько же ранены: они еще не могли прийти в себя и сидели на траве, хотя один кричал изо всей силы: «Vive l’Empereur!»[15] Другой солдат, раненный в бедро — он был высокого роста и с черными усами, прислонился к своей убитой лошади и, подняв с земли свою винтовку, продолжал стрелять с таким хладнокровием, как будто бы находился в тире, и попал прямо в лоб Августу Мейерсу, стоявшему от меня через двух человек. Затем он протянул руку, чтобы поднять другую винтовку, лежавшую неподалеку, но тут громадный ростом Ход-сон, самый сильный солдат во всей гренадерской роте, выскочил вперед и всадил ему штык в шею.
Сначала я думал, что нам просто за дымом не видно, как кирасиры обратились в бегство; но они были не из таких. При нашем залпе их лошади шарахнулись в сторону, и они попали под выстрелы двух других каре, находившихся за нами. Тогда они проскочили сквозь изгородь и, натолкнувшись на полк ганноверцев, выстроенный в линию, поступили с ними так, как поступили бы с нами, если бы мы не выказали такого проворства, — в одну минуту изрубили всех солдат в куски. Было ужасно смотреть, как долговязые немцы бегали и кричали, а кирасиры приподнимались на стременах, чтобы ловчее взмахнуть длинными тяжелыми саблями, которыми резали и кололи без милосердия. Вряд ли из всего полка осталось в живых хотя бы сто человек. После этого французы вернулись и проскакали перед нашим фронтом; они кричали и махали саблями, которые были красны от крови до самой рукоятки. Это они делали для того, чтобы заставить нас стрелять, но полковник, опытный воин, удержал нас, потому что мы не могли принести им большого вреда на таком расстоянии, а они набросились бы на нас прежде, чем мы успели бы вторично зарядить ружья.
Эти верховые опять скрылись за холмом по правую руку от нас, а мы прекрасно понимали, что, если бы мы разомкнули каре, они моментально налетели бы на нас. С другой стороны, было трудно оставаться в таком положении, потому что французы установили на расстоянии нескольких сотен ярдов от нас батарею, состоящую из двенадцати пушек, и стали стрелять так, что ядра пролетали прямо в середину нашего каре, — это называется беглым огнем. А один из их артиллеристов вбежал по склону на вершину холма и на глазах у всей бригады воткнул в сырую землю кол, чтобы он служил им указанием, и ни один из солдат не выстрелил в него, — каждый надеялся, что это сделает другой. Прапорщик Симпсон, бывший самым младшим офицером в полку, выбежал из каре и вытащил из земли кол; но стремительнее щуки, которая гонится за пескарем, на холм взлетел какой-то улан и нанес прапорщику сзади такой удар пикой, что не только ее острие, но и ствол прошли насквозь между второй и третьей пуговицами мундира. «Элен! Элен!» — воскликнул Симпсон и упал ничком на землю, между тем как улан, изрешеченный ружейными пулями, свалился с лошади около него, все еще держа в руках свое оружие: так они и лежали вместе — смерть соединила их страшными узами.
Когда батарея открыла огонь, у нас не осталось времени думать о постороннем. Каре хорошо для того, чтобы встретить кавалерию, но это самый неудобный строй, когда летят пушечные ядра, в чем мы скоро убедились, когда они начали оставлять среди нас кровавые следы. Наконец нам надоело слышать это постоянное шлепанье, звук, который производит твердое железо, ударяясь о живое тело. Через десять минут мы переместились на сто шагов вправо; на том месте, на котором мы стояли, остались убитыми сто двадцать рядовых и семь офицеров. Но потом пушки снова отыскали нас, и мы попробовали выстроиться в линию, однако в ту же минуту кавалерия — теперь это были уланы — бросилась на нас в атаку по склону холма.
Надо сказать, что мы обрадовались, услышав топот лошадей: мы знали, что благодаря этому прекратится на некоторое время пушечный огонь, и это даст нам возможность отразить нападение. На этот раз мы отразили его с достаточной силой, потому что были хладнокровны, злы и свирепы; что до меня, я не обращал большого внимания на этих кавалеристов, словно это были овцы в Корримюре. На войне человек по прошествии некоторого времени перестает бояться за собственную шкуру. Чувствуешь, что непременно нужно заставить кого-то заплатить за то, что пришлось испытать самому. На этот раз мы отплатили уланам, потому что у них не было кирас, которые могли бы защитить их, и семьдесят человек из их числа мы выбили залпом из седла. Может быть, это и не доставило бы нам такого удовольствия, если бы мы видели семьдесят матерей, плачущих о своих сыновьях; но в сражении люди делаются похожи на диких зверей и ни о чем не думают, точно так же, как два щеика-бульдога, схватившие один другого за горло.
Наш полковник распорядился очень умно: рассчитывая задержать кавалерию минут на пять, он выстроил нас в линию и прежде, чем начали стрелять пушки, отодвинул нас дальше ко впадине холма, так чтобы в нас не могли попадать ядра. Благодаря этому мы смогли перевести дух, что было необходимо, потому что наш полк таял, точно сосулька на солнце. Но если нам приходилось плохо, то другим было еще хуже. Среди бельгийцев, которых насчитывалось пятнадцать тысяч, царило полное замешательство, да и в нашей линии образовались большие промежутки, через которые свободно двигалась французская кавалерия. Кроме того, у французов было больше пушек, и они были гораздо лучше наших, а наша тяжелая кавалерия была изрублена в куски, так что дело нас не радовало. С другой стороны, Гугумон, эта обагренная кровью развалина, был еще в наших руках, — там все британские полки держались крепко; хотя, если уж говорить правду — а это должен делать всякий человек, — кое-где среди синих мундиров видны были красные, которые подвигались к задним рядам; но это были молодые солдаты и отставшие — трусы, какие попадаются во всякой армии; я опять повторяю, что полностью не отступил ни один полк. Сами мы видели очень мало из того, что происходит; но надо было быть слепым, чтобы не заметить, что за нами все поля покрыты обратившимися в бегство солдатами. Когда начали показываться пруссаки — хотя мы, находясь на правом фланге, ничего не знали об этом, — Наполеон выставил против них двадцать тысяч своих солдат, которые бросились на них, и те отступили, так что мы остались опять одни. Обо всем этом мы ничего не знали; одно время французская кавалерия находилась между нами и остальной армией, и мы уж подумали, что только одна наша бригада и уцелела, а потому твердо решили продать свою жизнь как можно дороже. Был уже пятый час пополудни; почти у всех нас со вчерашнего вечера не было куска во рту, и, кроме того, дождь промочил нас насквозь. Он моросил целый день, но в последние часы нам некогда было думать ни о погоде, ни о голоде. И вот мы начали озираться, подтягивая пояса и спрашивая себя, кто ранен, а кто уцелел. Я рад был увидеть Джима: его лицо совсем почернело от пороха, он стоял справа от меня, опершись на свое ружье. Он увидел, что я смотрю на него, и крикнул, не ранен ли я.
— Нет, не ранен, Джим, — ответил я.
— Кажется, я пустился в безумное предприятие, — сказал он с мрачным видом, — но дело еще не кончено. Клянусь Богом, или я его убью, или он меня.
Бедный Джим день и ночь думал о своей обиде и, сказать по правде, видимо, слегка тронулся умом, потому что в глазах у него был какой-то особенный блеск, какого я никогда не видал раньше. Он всегда принимал к сердцу всякие пустяки, и я был уверен, что с тех пор, как его бросила Эди, он не вполне владел собой.
В это время мы увидели два поединка, которые, как мне рассказывали, довольно часто происходили в сражениях в старые годы, прежде чем солдат приучили драться массами. На возвышении перед нами проскакали, пришпоривая лошадей, два всадника; они мчались во весь опор. Первый из них был английский драгун; он летел вперед, склонив лицо к самой лошадиной гриве; за ним гнался французский кирасир, старый седой солдат на огромной черной лошади, которая громко стучала копытами. Завидев их, наши солдаты подняли насмешливый крик: нам было стыдно, что англичанин удирает от француза, но, когда они пролетели перед нашим фронтом, мы поняли, в чем дело. Драгун уронил саблю и был совершенно безоружным, враг совсем настигал его, а добыть новое оружие ему было негде. Наконец, может быть, задетый за живое нашими насмешками, он решился добыть его во что бы то ни стало. Увидев, что около одного убитого француза лежит пика, он резко поворотил лошадь в сторону, пропустил своего врага вперед и затем, ловко спрыгнув с седла, схватил пику. Но и другой был тоже не промах и налетел на него с быстротой молнии. Драгун бросился на француза с пикой, но тот отразил удар и саблей разрубил противнику плечо. Все это произошло в одну минуту, и француз рысью помчался вверх по холму; обернувшись к нам, он оскалил зубы, точно огрызающаяся собака.