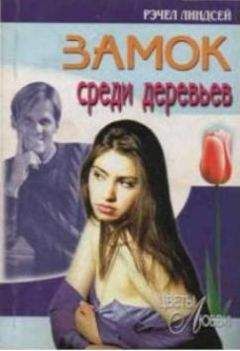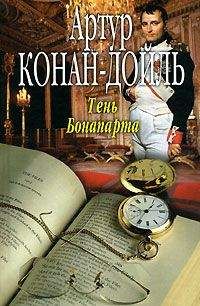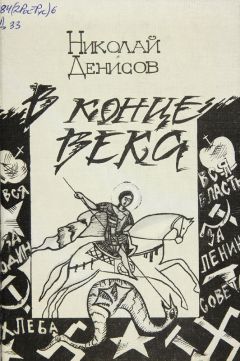Артур Дойль - Тень Бонапарта
Английская батарея, сделавшая первый залп, продолжала стрелять влево от нас, немецкая батарея действовала непрерывно с правой стороны, так что мы были совсем закутаны дымом; но он не закрывал нас настолько, чтобы служить защитой от находящихся напротив нас французских пушек, потому что десятка два ядер упали на землю как раз посреди нас. Когда я услыхал их свист около уха, я пригнул голову, как человек, собравшийся нырнуть в воду, но наш сержант толкнул меня в спину рукояткой алебарды.
— Не будь таким вежливым, — сказал он, — когда в тебя попадает ядро, можешь один раз поклониться, и довольно.
Одно из этих ядер сбило с ног пятерых солдат и превратило их в кровавую массу; я видел его после того лежащим на земле — оно было похоже на мяч красного цвета. Другое попало в лошадь адъютанта, причем произвело такой звук, словно камень шлепнулся в грязь; оно переломило ей спину и пролетело дальше, а лошадь лежала на земле, похожая на лопнувшую ягоду крыжовника. Еще три ядра упали дальше направо, и по суматохе и крикам, какие поднялись там, можно было догадаться, что все они попали в цель.
— Джеймс, вы потеряли хорошую лошадь, — сказал майор Рид, стоявший как раз впереди меня, глядя с лошади на адъютанта, у которого все сапоги были в крови.
— Я заплатил за нее в Глазго пятьдесят фунтов стерлингов, — отвечал тот. — Как вы думаете, майор, не лучше ли солдатам лечь, раз до нас стали долетать ядра?
— Тьфу! — отвечал майор. — Они молодцы, Джеймс, это пойдет им только на пользу.
— Еще успеют наглядеться, прежде чем кончится сражение, — проворчал адъютант, в эту минуту стрелки и 52-й полк, находившиеся направо и налево от нас, двинулись вниз по склону, а потому нам было приказано растянуть линию. Выстрелы визжали, точно голодные собаки, на расстоянии нескольких футов за нашими спинами. Почти каждую минуту слышались глухие удары, какое-то шлепанье, затем крики боли и топанье сапогами по земле: мы знали, что у нас большие потери.
Так как моросил мелкий дождик и дым стлался по земле, то только в те минуты, когда он немного рассеивался, мы могли видеть, что происходит впереди, хотя, судя по грохоту пушек, сражение шло уже по всем линиям. Теперь стреляли сразу из четырехсот пушек, и от грохота могла лопнуть барабанная перепонка. У всех нас потом долго стоял в голове шум. Как раз напротив нас на склоне холма стояла французская пушка, и мы совершенно ясно видели, как из нее стреляли. Маленькие проворные люди в очень узких панталонах и высоких киверах с большими прямыми перьями работали, как овчары, которые стригут овец, — они приколачивали снаряд, банили пушку и стреляли. Когда я увидел их в первый раз, их было четырнадцать человек, а под конец их осталось только четверо, но они продолжали работать так же неустанно, как и прежде.
Внизу, под нами, находилась ферма, которая называлась Гугумон; и там все утро шел ожесточенный бой, потому что стены, окна и фруктовый сад были в пламени и в дыму, и оттуда доносились такие ужасные крики, каких мне никогда не приходилось слышать прежде. Ферма была наполовину сожжена и разрушена ядрами; десять тысяч человек ломились в ворота: около четырех тысяч гвардейцев защищали ее утром и две тысячи вечером, и ни один француз еще не переступил ее порог. Но как они дрались, эти французы! Жизнь была для них все равно что грязь под ногами. Там был один — я как будто и сейчас вижу его перед собой — довольно полный человек с красным лицом, на костыле. Он подошел совершенно один, прихрамывая, к боковым воротам Гугумона, начал стучать в них и закричал своим солдатам, чтобы они шли за ним. Он пробыл тут пять минут, расхаживая взад и вперед перед наведенными на него дулами ружей, выстрелы из которых в него не попали, но наконец один брауншвейгский стрелок, находящийся в саду, прицелился из винтовки и прострелил ему голову. И это был только один из многих, потому что в продолжение всего дня, когда французы не наступали целыми массами, они подходили по двое и по трое, и на лицах у них было написано такое мужество, как будто бы вслед за ними шла целая армия.
Мы пролежали так все утро, смотря сверху вниз на бой при Гугумоне; но герцог вскоре увидал, что справа бояться нечего, и потому нашел для нас другое употребление.
Французы выдвинули своих застрельщиков[14] дальше фермы, и они, засев в незрелой ржи, стреляли в канониров, так что прислуга трех из шести орудий, находившихся влево от нас, была вся перебита и лежала вокруг в грязи. Герцог видел решительно все и в эту минуту подъехал к нам. Это был смуглый, худой, но крепкого сложения человек с блестящими глазами, носом с горбинкой и большой кокардой на треуголке.
За ним ехало человек двенадцать офицеров, и все они были так веселы, как будто бы охотились за лисицей: к вечеру из этих двенадцати человек не осталось в живых ни одного.
— Жаркое дело, Адамс, — сказал герцог, подъезжая к нам.
— Очень жаркое, ваша светлость, — отвечал наш генерал.
— Но, я думаю, мы сможем выдержать их натиск. Ведь не можем же мы допустить, чтобы их застрельщики заставили замолчать нашу батарею. Переведите этих солдат на другое место, Адамс.
Только тут я узнал, какое необъяснимое чувство овладевает человеком, когда ему приказывают идти в бой. До сих пор мы просто лежали на земле и нас убивали, а это самое скучное дело в сражении. Теперь наступила наша очередь, и клянусь вам, мы были вполне готовы к этому. Мы, то есть вся бригада, сразу вскочили на ноги и, выстроившись в четыре ряда, бросились на засеянное рожью поле. Когда мы подходили, застрельщики дали по нам залп, а потом начали пробиваться сквозь рожь, точно перепела, — опустив головы, согнув спины и волоча за собой ружья. Половина из них ушла от нас, но остальных мы догнали — сначала офицера, потому что он был очень полным человеком и не мог бежать быстро. У меня закружилась голова, когда я увидел, как Роб Стюарт вонзил свой штык в широкую спину француза, и тот завыл, точно грешник в аду. На этом поле никому не было пощады, и все они были перебиты. Наши солдаты рассвирепели, и неудивительно, потому что эти осы жалили нас все утро, а мы были не в состоянии даже толком их разглядеть.
Мы прошли до самого дальнего конца засеянного рожью поля и очутились перед дымовой завесой: тут стояла на своей позиции вся французская армия, от которой нас отделяли только два луга и узкая проселочная дорога. Увидя французов, мы испустили крик и, дай нам волю, бросились бы в атаку, потому что глупые молодые солдаты часто рискуют головой без всякой пользы. Однако на сей раз рядом с нами ехал рысью на своей лошади герцог, и вот он что-то крикнул нашему генералу. Вслед за этим все офицеры подались вперед и своим оружием преградили нам дорогу. Заиграли сигнальные рожки, началась толкотня и давка, сержанты бранились и распихивали нас алебардами, и скорее, чем я успею написать эти строки, вся бригада выстроилась в три небольших правильных каре с торчащими со всех сторон штыками, как это называется — эшелоном, так, чтобы каждое каре могло стрелять, не задевая другого.
Это было для нас спасением, что легко мог понять и я, хотя и был всего лишь мальчишкой-солдатом. На нашем правом фланге был низкий отлогий холм, и из-за него доносился звук, который можно сравнить разве что с шумом волн на бервикском берегу, когда ветер дует с востока. Вся земля содрогалась от этого глухого рокота.
— Смелее, 71-й полк, ради Бога смелее! — кричал за нами голос нашего полковника, хотя перед нами не было ничего, кроме отлогого зеленого ската, покрытого травой и испещренного ромашкой и одуванчиками.
И вдруг из-за холма показались разом восемьсот медных касок с длинными хвостами из конских волос, развевающимися по воздуху, а затем восемьсот свирепых лиц, которые, сверкая глазами, смотрели на нас между ушами такого же числа лошадей. С минуту можно было видеть только блеск кирас, свистящие в воздухе сабли, развевающиеся гривы лошадей, их раздувающиеся красные ноздри и слышать топот копыт; затем послышался ружейный залп, и наши пули застучали, ударяясь об их кирасы, точно град об оконные стекла. Я выстрелил вместе с остальными и затем как можно скорее забил новый заряд стараясь разглядеть сквозь дым, что происходит передо мной; но видел лишь что-то длинное и тонкое, медленно двигающееся взад и вперед.
Нам дан был рожком сигнал прекратить стрельбу; порыв ветра рассеял окутывавший нас дым, и тут мы разглядели, что случилось.
Я ждал, что половина кавалерийского полка лежит на земле; но то ли французов спасли их кирасы, то ли мы, молодые солдаты, в суматохе выстрелили слишком высоко, только залп не причинил им большого вреда. Около тридцати лошадей лежало на земле, три из них на расстоянии десяти ярдов от меня; средняя лежала на спине, задрав кверху все четыре ноги; одна из этих ног и была тем непонятным предметом, который я видел сквозь дым. Около восьми или десяти человек были убиты и приблизительно столько же ранены: они еще не могли прийти в себя и сидели на траве, хотя один кричал изо всей силы: «Vive l’Empereur!»[15] Другой солдат, раненный в бедро — он был высокого роста и с черными усами, прислонился к своей убитой лошади и, подняв с земли свою винтовку, продолжал стрелять с таким хладнокровием, как будто бы находился в тире, и попал прямо в лоб Августу Мейерсу, стоявшему от меня через двух человек. Затем он протянул руку, чтобы поднять другую винтовку, лежавшую неподалеку, но тут громадный ростом Ход-сон, самый сильный солдат во всей гренадерской роте, выскочил вперед и всадил ему штык в шею.