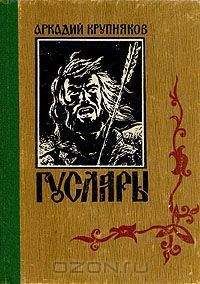Александр Говоров - Последние Каролинги
Он поклонился, опустив руку до травы, и представился.
— Я Ивар, а это мой брат Эйн. Мы бретонцы, слышаль — Гаэлис Гламмар, такой есть народ? Вы боитесь бретонцев, потому что они воруют люди по берега ваших рек… Но мы не те, мы мирный купец…
Через некоторое время Азарика, чего сама от себя не ожидала, сидела с ними на холмике у небольшого костра, где на обструганных палочках жарилась необыкновенно вкусная рыба. Бретонские парни оказались ничуть не страшными, а наоборот, очень симпатичными и даже доверчивыми. Рассказали ей (впрочем, рассказывал Ивар, который знал по-романски, а старший, Эйн, только кивал головой), что они плывут сверху, с ярмарки в Аврелиане, где закупали кричное железо, потому что их отец — оружейник в Кернадеке. Теперь они ждали, когда ветер задует с моря, чтобы пройти отмели в устье Лигера. Их барка стояла в камышах, в излучине Маны, и была так искусно спрятана, что Азарика различила среди кувшинок низкие борта с намалеванными языческими рожами, только когда ей их указали.
Так началось их знакомство. Азарика ничего им о себе не рассказывала, а они усиленно гадали, кто она такая, и все вместе дружно смеялись. По утрам она по-прежнему приходила купаться, но сначала на всякий случай внимательно озиралась. Впрочем, теперь это и не было нужно — бретонцы добросовестно отсиживались в своей барке, ожидая, когда она выкупается и позволит им подойти. И тут начиналась рыбная ловля, и костер, и бесконечные разговоры про зеленую Гаэлис Гламмар, где нет господ, а все равны между собой.
Конечно, они могли в один прекрасный миг заткнуть ей рот и утащить на барку — Азарика слышала такое! Но и она ведь могла однажды привести к их барке вооруженных монахов…
Азарика чувствовала, что не на шутку приглянулась веселому Ивару, да и его брату Эйну она по душе. Ивар вообще не сводил с нее глаз и старался услужить чем мог. И это ей было приятно, это снимало горечь с ее души.
Но у нее была еще забота об Агате и ребенке. В первый же вечер она вновь отправилась в поленницу, запасшись продовольствием. Агата лежала в забытьи, и Азарике удалось немного накормить ее жеваным мякишем. Но что делать с мальчиком, она решительно не знала. Разорвала ему на пеленки один из найденных ею в келье балахонов (Арифметики или Музыки — теперь уже неважно…). Сделала из тряпки импровизированную соску, макнула ее в козье молоко, и маленький Винифрид сосал вовсю, это ему даже нравилось!
Так приходила она к ним два раза в день. Агата уже не отталкивала ее, хоть и не произносила ни слова. Даже не беспокоилась, накормлен ли ребенок.
На четвертую ночь она окликнула Азарику:
— Я умираю… Во имя неба или во имя ада, не дай погибнуть малютке!
В шуме листвы ей чудился кто-то.
— Иду, любимый… Иду, теперь уже недолго!
Рассказывала, будто сама себе:
— Они встали, спина к спине… Винифрид, Ральф — его младший брат, другие. Слепца в середину… Гермольд все ободрял — дети, смелее, немного боли, и конец, живыми не дадимся… — И повторяла, еле шевеля сухими лепестками губ: — Немного боли, и конец… Немного боли, и конец…
Потом вдруг приподнялась и засмеялась:
— И все-таки я была счастлива. Ты слышишь, оборотень?
Счастлива! В невероятных мучениях и нужде счастлива, потому что любила своего горемыку Винифрида!
А была ли счастлива Азарика? Приезжая куда-нибудь в замок, Эд заботился: «Накормите моих собак и оруженосца…» Мерзкая жизнь оборотня, вечный страх позора — чтобы все это повторилось? Нет, никогда! Нет, ни за что!
А душа все-таки непрерывно болела, переживала вновь каждую деталь былого, проклинала и тут же плакала опять. Страдала — не за себя, за Эда, которому так нелегко быть королем!
В ту ночь Азарика не вернулась в келью Фортуната. Не пришла она и на берег Маны, потому что копала могилу Агате, потом устраивала в поленнице новое гнездо для ребенка. Когда-то отец взял приемышем ее, Азарику. Теперь она возьмет приемыша себе. До осени можно как-нибудь прожить — в лесу бродят козы с козлятами, есть знакомство на монастырской пекарне, — а потом? Как быть потом?
Только к вечеру, когда ребенок, сытый, заснул, Азарика спустилась к заводи. Поднялся ветер, он раскачивал ветлы, ерошил камыш. Ивы, колыхаясь, окунали в реку зеленые косы.
— Мы уплываем, — поднялся ей навстречу Ивар. — Я думаль, не видим больше… Знаешь? — засматривай юноша ей в лицо. — Едем с нами?
— Ивар… — ответила Азарика, ласково отстраняя его руки. — У меня ребенок… Мальчик!
— Я понималь… — кивнул Ивар, — я зналь почему-то… Это ничего. Мы воспитаем его как бретонский богатырь Кухулин!
Высоко в небе летели недостижимо чистые белые облака. Сразу похолодало, очертились края далеких лесов. Ветер с моря крепчал, его порывы трепали неубранное сено, хлопали дверьми, а в монастыре рвали канаты на звоннице, и колокола гудели сами собой.
6
Тысяча всадников сопровождали императора, покидающего пределы Галлии. Но на стоянке в Виродуне в дорожный шатер Карла III явился Рорик, великий коннетабль, и просил разрешения отъехать со своими. Начинается жатва, а после всех неустройств и разорений так нужен хозяйский глаз! Рорик был отпущен, но на следующее же утро с подобной просьбой пришли уже графы Каризиакский, Битурикский, Карнутский… Свита таяла, как мартовский снег.
Виродун проехали в пыли от множества копыт, с развернутыми знаменами, с приветственными кликами горожан. Но близ лотарингской границы их не ожидал, как полагалось, встречающий эскорт тевтонских сеньоров. Внезапно хлынули дожди, и в Гундульвию, пограничный городишко, императорский поезд прибыл лишь в сопровождении двух десятков полуголодных вавассоров. Ухабистая дорога от самого Виродуна оказалась усеянной сломанными повозками, застрявшими возами, опрокинутыми сундуками.
Но и на границе никто не встречал Карла III и его супругу. Поскольку император пребывал в обычной меланхолии, Рикарда вызвала к себе пфальцграфа Бальдера и, подавляя свою к нему неприязнь, просила скакать через границу в Туль" разузнать, в чем там дело.
Ей стало ясно, что в этом вонючем городишке предстоит пробыть долго. Замок гундульвийского сеньора — нелепая подслеповатая башня в духе нынешних времен — только строился, и пришлось расположиться на пограничном постоялом дворе, кишевшем насекомыми. Император, будучи водворен в одну из верхних комнат почище, тут же возлег на приготовленное ложе, предаваясь грезам невесть о чем. А Рикарда, как разъяренная пантера, все не могла успокоиться, ходила взад и вперед по ветхим переходам.
К вечеру она призвала к себе Берту и чтеца-итальянца. Из многих промокших и треснувших сундуков и укладок выбрала что поновее и подороже, переложила в два окованных медью ковчежца. Послала Берту вниз за добавочными веревками, а сама ласково положила руку в браслетах на плечо итальянца:
— Ринальдо, кажется, наступает то, о чем мы когда-то с вами мечтали… Будьте готовы в любой момент!
Тот покорно опустил красивое черноглазое лицо, как всегда выбритое досиня. Вернулась Берта и стала рядом с ним, хлопая белесыми ресницами. Какое-то странное напряжение чувствовалось в них, но Рикарде было не до того!
В полночь ее разбудили, вернулся пфальцграф Бальдер. Грохая сапогами, вошел к ней в комнату; она вопросительно приподнялась, придерживая на груди ночную кофточку. С откинутой каппы пфальцграфа на нее летели холодные брызги.
— Император низложен в Трибуре, — бахнул пфальцграф, не дожидаясь, пока она вышлет за дверь Берту. — Съезд тевтонских князей не стал ожидать прибытия его светлейшества…
— Кто же… — Она хотела спросить, кто избран, но воздуха не хватило.
— Арнульф, герцог Каринтийский.
— Бастард?
Пфальцграф молча кивнул. Императрица больше не спрашивала ни о чем, только подвески ее нервно позвякивали.
— А как же Фульк, Фульк… — оживилась она, даже освободила край ложа, чтобы пфальцграф мог присесть. — Неужели он примирился с Эдом и прочими бастардами?
— Откровенно скажу, — пфальцграф шаркал ногой, рассматривая что-то на полу, но на край ложа не садился, — никто другой столько не сделал для избрания Эда, сколько вы, государыня…
Да, да, она понимала это и тысячу раз прокляла себя, но что же делать? Неужели и Фульк теперь не поможет? А ведь она вытащила его из грязи за его бледные, уродские уши… Вспомнился последний с ним разговор перед отъездом из Лаона, его ядовитые извинения за пощечину, его туманные намеки на сердечко со снадобьем, его многозначительные оханья по поводу того, что Аола, увы, не любит жениха.
Стоп! Молния пронизала разум, осветила всю картину!
— Голубчик Бальдер… — начала она как можно проникновеннее. — Ваша судьба теперь зависит от судьбы его светлейшества, а значит, и моей. Вы устали, промокли, но нечего делать. Берите свежих коней, скачите в Париж, там готовится свадьба. Передайте невесте мой подарок и скажите — только непременно наедине! — пользоваться им ее научит канцлер Фульк… Или Готфрид Кривой Локоть!