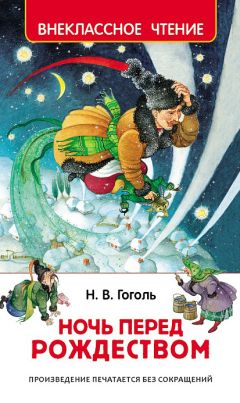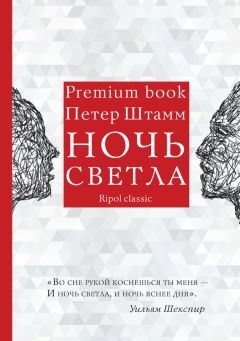Валентин Рыбин - Огненная арена
И те, кого правитель канцелярии поминал недобрым словом, спешили повиниться, «очиститься от черных пятен бунта». Один за другим побежали к правителю канцелярии. Первым явился штабс-капитан Пересвет-Солтан. Растерянный, потный, словно на дворе не зима, а знойное лето, замешкался у порога. А бывало без приглашения плюхался в кресло и начинал разговор. А тут — на тебе, растерялся. И полковник, видя его таким ничтожным, сделался еще строже:
— Что у вас, господин полицмейстер? С чем пожаловали?
— Был я в клубе велосипедистов, ваше высокоблагородие. Собрание там демократы проводили. Ну и один социал-демократ, студент Васильев, назвал государя Николаем Кровавым. На вопрос мой: «Не послышалось ли мне?», он посмел ответить: «Вы не ошиблись», Я было напомнил председателю собрания Нестерову, что подобный возглас есть оскорбление личности монарха, а он мне говорит: «Мы это знаем».
— Зачем вы мне это рассказываете, господин полицмейстер? — перебил его Жалковский. — Или вы хотите лишний раз доказать, что демократы не повинуются вам и не считаются с вами? Мы и без вашего рассказа знаем. Да и как им повиноваться, когда ваши полицейские в октябре в городском саду на митингах выступали. Как сейчас помню: вышел один пузатый, фуражку заломил на затылок и кричит: «Надоело, дорогие граждане, слышать нам, как нас обзывают «фараонами» Ишь ты, дрянь какая надоело, видите ли!
— Ваше высокоблагородие, я того полицейского!.. — попробовал защититься Пересвет-Солтан, но Жалковский вновь осадил его:
— Ах, вот оно что! Вы «того полицейского». А перед церковью на паперти кто извинялся? «Да я, говорит, только пол велел побрызгать, чтобы ему дышалось легче». А перед кем извинялся-то, не приведи господь! Перед вдовушкой Стабровского!
— Ваше высокоблагородие, не извольте сердиться, прошу вас! Искуплю все свои грехи, ей-богу!
— Поздно спохватились, Пересвет-Солтан. Поздно! Я ни одного слова не «кажу в вашу защиту. Мне не угоден такой полицмейстер. Ступайте!
Через день в этом же кабинете лебезили перед Жалковским прокурор Лаппо-Данилевский и его помощник Слива. Этих правитель вызвал к себе сам. Усадив начальственным жестом обоих в кресла, он подал им бумагу из Ташкента и велел досконально ознакомиться. Слива взял машинописные страницы и начал читать вполголоса своему начальнику «Отношение министра юстиции» по поводу наказания за участие в ноябрьско-декабрьской забастовке. Подробная петиция, вскрывая массовые беспорядки, охватившие после 17 октября 1905 года некоторые местности империи, касалась также пределов Туркестанского генерал-губернаторства. Лаппо-Данилевский и его помощник обвинялись в попустительстве демократии. «Более того, — говорилось в документе, — господин Слива принял как должное насилие над собой со стороны железнодорожных рабочих Казанджика».
— Бог свят, — лицемерно перекрестился Слива, дочитав до этого места. — Ну какое там насилие? Просто меня поругали, сняли с поезда и держали в вагоне, в тупике. Потом отпустили.
— И это говорит помощник областного прокурора? — ухмыльнувшись, произнес Жалковский. — «Поругали», «сняли с поезда". Нет, господин Слива, не поругали, а оскорбили нецензурными словами, не сняли, а вытащили, как побитую собачонку, и втиснули в арестанский вагон! И вы, вместо того, чтобы возбудить дело против рабочих, решили скрыть свой позор!
Слива, покаянно улыбаясь и вздыхая, выдержал поток «красноречия» полковника и принялся читать дальше. И весьма был обрадован, когда дошел до строк о Лаппо-Данилевском.
— Да ведь не один я! — воскликнул обрадованно. — И господина прокурора коснулось сиятельное перышко министра. Вот послушайте: «Означенные неправильные и легкомысленные действия коллежского асессора Лаппо-Данилевского свидетельствуют о недостаточном понимании им важных обязанностей прокурора окружного суда…»
— Большего и не прибавишь, — констатировал с усмешкой Жалковский.
— Ваше высокоблагородие, может быть и приказ об освобождении от должности уже есть? — спросил растерянно Лаппо-Данилевский.
— Я извещу вас, — невозмутимо отозвался правитель канцелярии. — Пока продолжайте службу.
Господин прокурор и его помощник откланялись и ушли.
Жалковский, продолжая третировать скомпрометировавших себя за время забастовки должностных лиц, набивал себе цену непогрешимого и незамешанного ни в каких крамолах администратора, а его подчиненные, шастая вокруг него, по вечерам устраивали сборища в офицерском клубе. В ресторане у буфетной стойки, в билиардной и библиотеке всюду шли толки о том, кто займет место Сахарова в Ташкенте, а в Асхабаде — место Уссаковского.
«Поистине парадокс времени, — тут и там раздавались голоса. — Сахаров оставляет кресло губернатора за то, что был слишком жесток к революции, а Уссаковский — слишком мягок. Так кого же нам прочит Фемида?»
Прошло еще несколько дней, и накануне рождества стало известно официально: должность Туркестанского генерал-губернатора принял генерал-лейтенант Суботич, в прошлом, до начала русско-японской войны, командовавший в Закаспии, а место начальника в Закаспийской области займет генерал-майор Косаговский.
Суботича асхабадцы хорошо помнили как генерала не особенно придирчивого: даже в войсках о нем говорили мягко. А о Косаговском сразу пошли самые страшные слухи. Выходец из простых казаков, дорогу к генеральским погонам проложил путем беспощадных репрессий и расправ над бунтарями: потому и послан в Закаспий. Обыватели пугали друг друга «новой метлой», офицерье откровенно радовалось и твердило: именно такого, строгого командующего, и недоставало Закаспию. Рабочие, выжидающе затаились…
* * *В конце рождества разнеслись по городу слухи: «Едет новый начальник области!» В день его приезда, утром, к приходу поезда собралась на перроне вся ас-хабадская аристократия. Поезд подошел. Генерал вышел из вагона с целой свитой офицеров. Поздоровался с Жалковским и с Махтумкули-ханом, приехавшим на встречу из Геок-Тепе. Остальным лишь кивнул. Внешне Косаговский ничем не выделялся. Среднего роста, сухощавый, горбоносый. Единственная, бросающаяся в глаза примета: кривоног, как всякий кавалерист. Генерал прошел на привокзальную площадь, сел с Жалковским и Махтумкули-ханом в карету и отправился в гостиницу «Гранд-Отель». Там он должен был пожить дня два-три, пока не освободит ему особняк Уссаковский.
Асхабадские господа и знатные ханы устроили новому генералу пышную встречу. Вечером в ресторане «Гранд-Отель», освещенном сотнями свечей в позолоченных канделябрах, гремела музыка. За сомкнутыми столами восседал весь офицерский состав гарнизона, высшие чиновники, ханы близлежащих аулов и сам Махтумкули-хан — он сидел по правую руку от генерала. Слева — правитель канцелярии. По праву распорядителя, Жалковский первым провозгласил тост за приезд и здравие нового командующего. Косаговский, выпив лихо, по-казацки, стакан водки, сразу захотел познакомиться с господами поближе.
— Ну, с Махтумкули-ханом мы знакомы давненько, — сказал, приглаживая висящие усы. — Еще, так сказать, во времена Скобелева виделись. Я тогда был двадцатилетним хорунжим… А кто будут те господа, что сидят напротив меня?
— Рад доложить, ваше превосходительство, — самодовольно заулыбался Жалковский. — Сей, что постарше, есть Каюм-сердар — ближайший друг Куропатки-на, с ним его сын, Черкезхан Каюмов, а тот, что низенький да скуластый, это Ораз-сердар — сын небезызвестного вам Тыкмы-сердара, оказавшего упорное сопротивление нам при взятии Геоктепинской крепости.
— Хороша гвардия, хороша! — восхитился генерал. — А что? Ей-богу, хороша. Если, скажем, сын Тыкмы служит так же ревностно нам, как служил его знаменитый отец государю-императору, после той прошлой войны, так это же очень похвально!
Всем представленным Косаговский пожал через стол руку и захотел выпить за их здоровье и дальнейшие успехи на службе государю и отечеству. Затем Жалковский представил ему господ офицеров и чиновников. Генерал, знакомясь с каждым за руку, довольно щерился и напутствовал:
— Желаю вам самой ревностной службы на благо России. Надеюсь, не подведете старика-генерала? — вопрошал он. — Раздавим совместно красную мразь революции?
— Так точно! — отвечал один.
— Постараемся, ваше превосходительство, — обещал другой.
— Рады стараться! — чеканил третий.
— Господин полковник, — полюбопытствовал Косаговский. — А что же Евгений Евгеньевич не захотел, что ли, присутствовать на нашем ужине? Или другие какие причины?
— Отказался, ваше превосходительство.
— Вот как? А я думал занят: с чемоданом возится, готовясь к отъезду, с женой в платочек плачет, а он, вишь ты, не захотел повидаться со мной. Когда же отбывает господин Уссаковский?