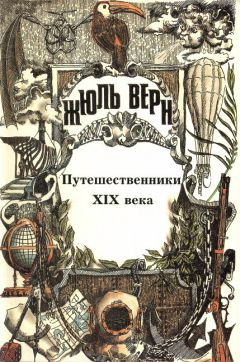Роуз Тремейн - Музыка и тишина
— К чему они стремятся, Сир?
— К тому, чтобы исполниться чувством изумления! Разве вы тоже к этому не стремитесь, мистер Клэр?
Питер Клэр отвечает, что не замечал в себе подобного стремления, но, тем не менее, полагает, что оно в нем есть.
— Конечно, есть! — говорит Король Кристиан. — Но когда вы последний раз сталкивались с тем, что это стремление было чем-то удовлетворено?
Лютнист смотрит в глаза Короля, опухшие и красные от бессонницы, затуманенные тревогой и горем. Он страстно хочет признаться Королю, что ответ на свои тоску и томления находит в Эмилии Тилсен, что она вызывает в нем изумление и являет его взору образ такого человека, каким он хочет быть. Но Питеру Клэру представляется жестоким разговаривать сейчас с Королем о своей любви. Это невозможно, поскольку Эмилия так же тесно связана с Кирстен, как он с Кристианом.
— Мне кажется, — осторожно замечает он, — что, когда наш оркестр сливается в полной гармонии, я какое-то время… переживаю…
— Чудо?
— Очарование.
— Может быть, это одно и то же?
— Почти. Я настолько полно отдаюсь восприятию звука — который представляется единым, хотя в действительности в нем сливаются все наши партии, — что во мне пробуждается та часть моего существа, которая в другое время не дает о себе знать.
— Та, где живет надежда или нечто подобное ей?
— Да. Та, где обитает не мое привычное я, которое блуждает без цели, ест, спит и предается праздности, но мое истинное я, цельное и неделимое.
При последних словах лютниста Король принимается беспокойно теребить свою косицу — это замечание открыло ему, как далеко ушел он в бесплодном потворстве испорченности Кирстен от того человека, который некогда в грезах своих проектировал военные корабли, который собирал городских бродяг под величественной крышей Ратуши и усаживал их за ткацкие станки.
— Ах, — вздыхает он. — Весь фокус в том, чтобы найти путь — неважно, ведет он вперед или назад, — к тому, чем мы стремимся быть.
При всех панегириках Питера Клэра гармонии, недавние репетиции в погребе грешили диссонансами.
Йенсу Ингерманну приходилось стучать и стучать палочкой по пюпитру.
— Синьор Руджери, откуда у вас эта внезапная страсть к фортиссимо? Герр Кренце, вы извлекаете ужасающие звуки из своего рта и ни одного мало-мальски достойного из своего инструмента. Мистер Клэр, вы отстаете. Неужели вы разучились держать такт?
Кажется, что музыканты на пределе сил. Собираясь утром, они едва разговаривают друг с другом. Они зевают. Бросают взгляды за пределы своей мрачной тюрьмы. Солнечный свет уже не проникает в щели между кирпичами, и они знают, что зима не заставит долго ждать.
И вот однажды днем, когда они играют для Короля почти четыре часа без перерыва и свет начинает меркнуть, свечи догорают, а оплывающий воск заливает ноты, как только люк над ними наконец опускается, Руджери и Мартинелли кладут смычки, и Руджери встает, опрокидывая стул.
— Господа! — говорит он. — Мартинелли и я держали conferenza[14]. Мы говорим, что вынести еще одна зима в этих условиях нетерпимо! Мы все умрем от простуда. От какой-нибудь чахотка. От sofferenza[15].
Мартинелли энергично запускает пальцы в курчавые волосы, словно затем, чтобы стряхнуть sofferenza, которая уже начинает проникать в его голову.
— Мы спрашиваем, что мы сделали, — говорит он, — мы из лучших музыкантов в Европа, чтобы нас сажали в башня? Скажите нам, если можете, Герр Ингерманн, скажите нам, per favore, скажите, per favore[16], просветите нас…
Йенс Ингерманн пристально смотрит на обоих итальянцев. Он всегда относился к ним подозрительно, опасаясь взрыва со стороны людей, которые не сдерживают свои страсти для музыки, но растрачивают их на мимолетные взрывы. Он молчит, не сводя с них ледяного взгляда, затем пробегает взглядом по остальным музыкантам. В этот момент Руджери вынимает из-под стопки нот лист пергамента и поднимает его над головой.
— Una petizione, — объявляет он. — Мы составили ее эта ночь. Мы просим Короля рассмотреть наше положение. Мы просить его подумать о том, как мы здесь страдать, среди холодных камней и кур…
— Сядьте, синьор Руджери, — неожиданно произносит Йенс Ингерманн, ударяя рукой по пюпитру.
— Нет! — говорит Руджери. — Нет, Капельмейстер. Не только мы осмеливаться сказать, что с нами обращаться недостойно. Нам известно, что Герр Кренце и месье Паскье на нашей стороне и подпишут нашу петицию. А если мы все ее подпишем…
— Не подпишет никто из вас, — говорит Ингерманн. — Не будет никакой петиции.
Из груди Мартинелли вырывается нечто среднее между вздохом и воплем. Затем он выкрикивает по-итальянски, что начинает сходить с ума в этом погребе, что в его стране в такие места помещают только заурядных преступников и настоящих безумцев, что сама музыка, как она ни прекрасна, не компенсирует подобных неудобств и что он не винная бочка и не намерен стариться в погребе.
Кренце ухмыляется. Когда после взрыва Руджери наступает тишина, музыкант из Германии замечает, что, будь он винной бочкой, к нему относились бы с почтением, поскольку Король вино предпочитает не только музыке, но и всему остальному в своем королевстве. Ингерманн раздраженно ставит ему на вид, что, возможно, доведет его наблюдение до сведения Его Величества. Паскье, который израсходовал все силы на изучение датского и отказывается изучать итальянский, осведомляется, что сказал Мартинелли. Руджери ударяет кулаком по petizione и кричит, что Король — это человек, познавший страдание и, следовательно, способен посочувствовать им. Питер Клэр, словно не замечая холодной ярости, что поднимается в груди Ингерманна, просит прочесть петицию вслух.
Petizione написана по-датски и грешит ошибками. Хотя Ингерманн делает вид, будто затыкает уши, Руджери начинает читать.
Его Величеству Королю,
Мы нижеподписавшиеся преданные делатели Звука умоляем его услышать наши мысли, а они таковы: мы скорбим оттого, что должны пребывать в погребе мы жестоко страдаем от холода в наших пальцах нет крови…
— Что за жалкий вздор? — вмешивается Ингерманн.
Непродолжительная тишина, и Руджери продолжает, не глядя на Йенса Ингерманна:
И мы молим Его Величество услышать наши моления в этой petizione и перевести нас в любое другое место…
— Хватит! — пронзительно кричит Ингерманн. — В жизни не был среди таких бездельников и глупцов. Из чего вы сделаны? Из молока? Что за кислую вонь вы пускаете своими ничтожными огорчениями и жалобами!
— Ого, — говорит Кренце, — еще и нравоучение. Да с потугами на поэзию…
Не обращая на него внимания, Ингерманн продолжает:
— Разве вам не известно, — говорит он, — что из недели в неделю музыканты всего мира шлют мне письма, умоляя дать им место в этом оркестре? Неужели вы не понимаете, что каждого из вас можно заменить тремя лишь за время, которое требуется, чтобы переплыть Северное море? Вас просто заменят! Вы не понимаете причин, по которым мы находимся под Парадными Комнатами, ведь у вас нет ни капли здравого смысла, и вы вообще ничего не способны понять. Я так и доложу Королю: его музыканты ничего не понимают. И вас выставят отсюда.
Схватив свои ноты, Йенс Ингерманн торжественно покидает погреб. Наступившую тишину нарушает лишь яростный стук его шагов, поднимающихся по узкой лестнице в верхние комнаты.
В тот же вечер Король Кристиан посылает за Питером Клэром.
— Лютнист, — устало говорит он, — я слышу, что во дворце мятеж.
В его лице нет ни беспокойства, ни тревоги, только усталость. Что такое мятеж музыкантов в сравнении с горестями его сердца! Скрипачам, лютнистам можно найти замену; Кирстен никем не заменишь.
Мгновение-другое Питер Клэр молчит, затем отвечает, осторожно подбирая слова:
— Капельмейстер Ингерманн однажды сказал мне, что Итальянцы хуже других переносят холод в погребе, поскольку их кровь к нему не привыкла. Возможно, вы отнесетесь к ним с сочувствием. Дело только в этом, Сир. Они боятся заболеть с наступлением зимних холодов…
Как и в вечер прибытия Питера Клэра в Росенборг, Король Кристиан взвешивает серебро. Весы — настоящее произведение искусства, у Короля три набора гирь в Марках, Лодах и Квинтах{85}. Самыми мелкими гирьками, говорит он, можно измерять вес до одного грамма. Однако крупные, погрубевшие от охоты руки Короля справляются с ними поразительно ловко.
— А как вы? — спрашивает он. — Забыли о своей священной обязанности? Ангелам бунтовать не пристало.
Питер Клэр отвечает, что об обязанности своей он не забыл и что холод в погребе его не пугает. Просто он видит, как страдают другие музыканты.