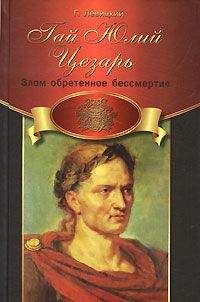Виталий Амутных - Русалия
— Как так?
— Так вот, вырешил он жизнь святую вести — в лес жить ушел. Вот уж… Когда?.. В конце серпня и ушел. После Спожинок[265], значит. Это после того, как на нас ночью хазары набежали. Ведь ночью набежали, как навии какие, — от волнения, вызванного воспоминаниями, голос Девятко делался тонким и дребезжащим. — Но тебя-то, мы знаем, в Киеве не было. Ты аккурат на войне был с греками…
Игорь все мрачнел лицом и мрачнел, и потому, что войну, на которой он в то время был, войной-то назвать и нельзя, а еще князь становился угрюмым оттого… Если бы эта голова еловая знала, что большая часть плодов, собранных его общинниками, пойдет как раз тому, кто посылал сюда наемных шишей за невольниками. (А вдруг знает?) И будет все это положено к его ногам только ради того, чтобы вот так же хазары не пришли под Киевские стены. А что он, Игорь, может против Иосифа? С Хазарией и греки никак не сладят. Войско у Иосифа — уф! И каждый его наймит знает, что ежели даст в бою слабину, не оставит его хозяин в живых. А потом, во всех странах, во всех больших городах есть у хазарского малика верные ему соплеменники. И в Киеве их немало, да еще и Ольга какие-то тайные сговоры с ними водит. Гнал их из Византия Роман Лакапин. Да только золото рахдонитов, видать, против царской воли теперь большую силу имеет.
— На войне был?.. Там был, где мне надо было быть, — с внезапным ожесточением сверкнул глазами Игорь. — Не твоего ума дело разбирать, где мне быть! Иди. Если жито[266] случится затхлое, а лисы плешивые, — мои люди скажут, — вдругорядь будете все сбирать. Все. Иди уже отсюда.
Ошарашенный непонятным гневом великого князя, Девятко невольно попятился к выходу, при этом он, подобно вытащенной на берег рыбе, все открывал и закрывал безгубый рот, обсаженный кустиками седых волос, видно, собираясь что-то сказать, да все не насмеливаясь. В отступлении своем старик, не заметив, задел большую медную лохань, стоявшую под оловянным рукомойником, и та с велегласным грохотом сверзилась на пол. Вовсе уж потерявшись от этой досадной неловкости старина бросился устанавливать ее на место, но та все противилась его рукам, так и норовя вновь кинуться вниз. Происходящее, несомненно, должно было показаться находящимся здесь же четверым отрокам необыкновенно забавным. Однако они, с легкостью улавливая настроение князя, и потому лишь отложив кости, игре в которые только что отдавались с пылкостью, кусая губы от душащего их смеха, безмолвно взирали на то, как в углу избы старик Девятко боролся с медной лоханью.
В холодных вязких туманах грудня таяли холмы и перелески. Сквозь мельчайшую водяную пыль, в которой часом уже показывались зимние белые мухи, княжеская дружина свершала свой круговой путь по городам, селам и весям русской земли. Разбухшие от воды густые бурые травы под копытами лошадей глухо чавкали, они давно уже уснули или умерли, разбросав перед смертью вокруг себя семя — залог новой весны. Вновь наполнившиеся водой старицы, выступившие из берегов ручьи то и дело преграждали путь всадникам, — кони останавливались, фыркали, низко опуская головы, и только удары пяток в бока и болезненное натяжение удил заставляло их неохотно ступать в ледяную воду. А вокруг белесая мгла, в которой, будто в день творения, возникали не проявленные, а только намеченные образы холмов, русских святилищ, деревьев, изб, людей. Эти неясные очертания то зарождались, то вновь таяли в животворящей мути, разделялись на части, сплавлялись друг с другом, иной раз вызывая к жизни вовсе невероятные образования.
Дорога огибала довольно высокую кручу, и вдруг на ее вершине из складок тумана появилось чудище… Невероятное видом оно было столь огромно, а воображение добавляло ему, едва различимому в слишком зыбком окружении, той уродливости, которая не может обещать ничего хорошего, и потому видавшие виды мужи в зрелых годах и те, приближаясь к нему, на всякий случай взялись за рукояти акинаков или боевых топориков с короткими аланскими лезвиями. Чудище оказалось громадной березой, видно, век простоявшей над кручей, до того, как осенний вихорь не своротил ее. Однако каким-то одним корнем она все же удерживалась на вершине, повиснув ветвями вниз, в то время, как ее могучие корни уходили в слишком низкое молочное небо, теряясь в нем. Дружина проехала мимо, посмеиваясь и перешучиваясь. Все видели эту странную вековую березу, но видеть — не значит понять. Как в зерцале отражен Род во всех своих проявлениях. Его образ запечатлен в душе, во сне, во всех мирах, он виден как в тени, так и в свете… Да только мало видеть; лишь тот, кто сумеет уразуметь его до распада своего тела, найдет дорогу к нему. Разум выше чувств. Однако сущность выше разума. А Род выше всего.
Урожай этого полюдья виделся немалый. Тем не менее уже в третье становище к Игорю прибыл гонец от Ольги. Он передал слова княгини, что та обеспокоена тем, что дани переправляемой в Киев слишком мало, и если вовремя и в полной мере отдать требуемую долю хазарскому царю, то дружинникам останется разве что на зобанец[267] да сушеных ершей, а это им точно не понравится.
— Да что ты врешь! — взъярился вдруг Игорь. — Как это мало?! Не могла Ольга такого сказать! Верно ты, голик[268] осиновый, сам что украл!
— Да я же того… Я в кладовые не допускаем… Я в конюшне… — невольно оправдывался длинный мосластый парень, быстро моргая белыми ресницами, отчего не слишком породистое лицо его делалось вовсе глупым.
— Вот я в цепи тебя!.. — продолжал распаляться князь, норовя отпустить меткий подзатыльник, чему мешал исключительный рост молодца. — Я тебя вместе с татями в рабы хазарам отдам! Вот посмотришь тогда!..
Ни князь, ни долговязый малый не знали на что тому следует посмотреть. А причиной столь яростного Игорева гнева было то, что с младых ногтей знал он поговорку: не птица среди птиц сыч, не зверь среди зверей еж, не рыба среди рыб рак, не скот среди скотов коза, не холоп среди холопов тот, кто у холопа работает… не муж среди мужей, кто жены слушает. Впрочем, знал эту поговорку, конечно же, и гонец.
Идя по правому берегу Днепра, вниз по его течению, Игрь как обычно прошел прежде земли полян, заглянул в те общины уличей, которых не успели оделить своей столь же небезвозмездной опекой печенеги, посетил всего пару сел тиверцев, и тогда повернул вновь на север к древлянам. Это был обширный и изобильный край, в богатствах которого светлейший князь чаял найти основное подспорье в расчетах с треклятым хазарским маликом. Тем более, что посыльные Ольги уже успели умучать его одними и теми же ее напоминаниями, настигая князя едва ли не в каждом втором становище. Между тем он и не догадывался, что гонцов его деятельная супружница направляла не только к нему. Когда кто-то из его отроков заговаривал о том, что дружинники Свенельда разодеты так, словно сами они цари, а матерые вои, вздыхая, рассказывали о них же, будто все мечи у тех самолучшей франкской работы с ручками из рыбьего зуба[269], обвитыми серебром и бронзой, — Игорь и не подозревал, что затевают они эти разговоры неспроста, что и здесь успели прошмыгнуть Ольгины баламуты.
Не смотря на то, что размер назначаемой дани, как водится, был оговорен год назад, во время прошлого полюдья, направляясь к деревскому князю Малу в Искоростень, Игорь выслал вперед посольство уведомить вождя древлян, что дань должна быть увеличена. Вымысливая причину, которой следовало бы изъяснить столь непочтительную и скоропостижную перемену честной договоренности, Игорь долго путался в обоснованиях, да наконец, махнув рукой, велел своим людям говорить — так, мол, светлейший князь русский урядил.
Путь к Искоростеню шел через густые леса, редевшие по мере того, как все чаще возникали впереди деревские поселения.
— Куржевина-то[270]! Благолепие! — восхищенно воскликнул ехавший впереди Игоря вовсе юный отрок Всемил, поставленный при необходимости срубать низко нависавшие ветви; воскликнул и тут же боязливо оглянулся на старших, ожидая вероятных насмешек на счет своей младой восторженности.
А лес стоял действительно чуден. Ствол каждого дерева был укрыт колючим белым мехом, каждая самая тоненькая веточка, густо усаженная сверкающими ледяными иглами, выявляла некое волшебное нездешнее цветение. И уж не было ничего странного в том, что дальнее бормотание тетеревов, кинувшихся токовать по случаю тихого нехолодного дня, казалось голосом Дива, а искристая ледяная пыль, сбитая с верхушки сосны проскочившей белкой, смотрелась паволокой самой Светлуши. Копыта дружинных лошадей продолжали торить дорогу в зачарованном лесу. Вновь позабыв о своем стремлении казаться старше и сдержаннее отрок Всемил, жизнерадостно выкрикивая подражающую тетеревиному голосу скороговорку, не без задора передразнивал птиц, где-то за версту отсюда от избытка жизненных сил сошедшихся на богатырское состязание: