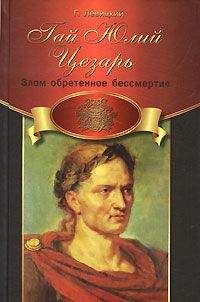Виталий Амутных - Русалия
— Кто же эти нелюди? — бросил в толпу Константин.
И тотчас в ответ ему ринулась громовая лавина сплетенных голосов. Однако он без труда вычленил из месива экзальтированных голосов определенные слова.
— Клодон! Клодон! Василий Петин! Клодон! Филипп! Мариан! Мариан Аргир! Клодон!..
Конечно, Константина не поразило такое знание черным народом имен участников игрищ, происходивших за непреодолимой стеной, верно укрывавшей от сторонних глаз забавы Дворца, ведь еще месяц назад по всем харчевням Константинополя, по всем его рынкам и площадям были разосланы специальные люди, которые в своей неудержимой словоохотливости разбалтывали всем и каждому вымысленные и трижды отредактированные «секретные секреты».
— …так пусть же их постигнет правый суд народа, поскольку в ваши руки влагает Господь свою высшую справедливость!
Для того, чтобы христианская справедливость черни приобрела кристальную чистоту, в толпу было брошено тридцать тысяч серебряных монет, после чего золотой царь вместе со своей золоченой свитой направился к воротам Халки, с тем, чтобы на всякий случай не подвергать себя нечаянностям, какие (пусть только умозрительно) могли бы возникнуть на пути его продвижения к Большому ипподрому, где предполагалось основное действо праздника. Ведь для него на ипподром существовал и другой путь. Скрывшись за надежными стенами, заслонявшим от недостойных радости Большого дворца, люди в золоте направились к другому безопасному переходу, соединявшему Дворец уже непосредственно с ипподромом.
А вся возбужденная толпа за исключением нескольких десятков мешкотных горемык, затоптанных в давке, возникшей во время раздачи серебра, сломя голову кинулась к Месе, поскольку там, от ворот главной тюрьмы, должно было брать начало грандиозное шествие всеобщего поругания. И надо сказать, на этот раз местные лицедеи, чьему дарованию обыкновенно доверялось внешнее оформление подобных процессий, не поскупились на выдумку и задор.
Открывали шествие жезлоносцы. Эти скоморохи держали в руках длинные палки, на которые было навешено какое-то грязное тряпье, привязаны гнилые овощи, приколочены таблички с надписями «дерьмородные герои», «орлы нужных чуланов» и тому подобные шутовские скверности, которые должны были быть понятны и харчевнику и мусорщику. Шуты печатали шаг, как бы подражая протикторам, но при том выделывая всякие непристойные телодвижения, на что гулом восхищения отзывалась отодвинутая охранявшими процессию кондаратами на обочины улиц чернь. За жезлоносцами следовали прочие дураки, на ходу выкидывавшие потешные коленца и при том распевавшие глумливые дифирамбы.
Вот ведем мы прославленных героев,
В блеске золота все их одеянья,
Скакуны легконогие под ними,
А на мудрых головах у тех героев
Золотые венцы сияют славой…
Надо признать, голоса певунов были превосходными, ведь событие, принявшее их участие, замышлялось, как знаменательное, частично оплачивалось из городской казны, частично из казны самого автократора, и потому средствам, составлявшим его, следовало иметь первосортное качество.
Но вот за ватагой веселых дураков выступило основное звено шествия. Избитые, а то и покалеченные, учредители ужасного заговора, уже безучастные ко всему происходящему вокруг них, ехали на ослах и верблюдах, посаженные лицами к хвостам животных. На них были нацеплены омерзительные лохмотья, на склоненных шеях тех злоумышленников болтались ожерелья из овечьих кишок, а головы венчали короны, слаженные тоже из каких-то внутренностей. Кровь животных, смешиваясь с человеческой кровью, прокладывала по бритым затылкам извилистые пути. Впрочем, изуродованными у несчастных были не только головы. Смешно остриженные бороды, обритые брови и выщипанные ресницы также призваны были добавлять образам лиходеев занятности. Но кто же были те в прямом и переносном смысле оплеванные люди? Все они как один являлись теми недавно обласканными смельчаками, чьими руками силы, стоявшие за Константином, свергали Лакапинов, а теперь те же силы вполне затертым способом избавлялись от свидетелей-исполнителей. Возбужденная видом и запахом крови чернь в осатанелой ярости швыряла в тех камни, объедки, комки коровьего навоза и прочую дрянь, выкрикивала чудовищные поношения, и, казалось, если бы не острия контарионов, прижимавшие ее к обочинам, готова была разорвать и без того уже полуживых неудачников.
— Анна! Анна! — звала к себе сестру стоявшая на балконе роскошного трехэтажного дома дочка любовницы одного из веститоров Константина. — Ты посмотри, какая мерзость! Какой ужас! Фу! Фу! Ой, смотри, а вон тот, коренастый такой, белокурый… Нет, не тот, вон, без колпака, ноги задирает. Ну смешной, да?!
Когда шествие подошло к Театру, то бишь к Большому ипподрому, все его трибуны снизу доверху были засыпаны кипучей публикой. Но появление виновников того собрания толпа встретила таким ликованием, что никто бы уж не мог утверждать наверное, радость или возмущение являлось тому причиной.
Еще много было похабных плясок и издевательских песенок, еще долго катали заговорщиков на ослах по площадке ипподрома, долго летели в них со всех сторон камни и всяческий мусор, пока наконец наступило время объявления и свершения наказаний.
В этот момент Константин почувствовал, как за его спиной раскрылись гигантские золотые крылья. Он взмахнул ими, еще раз, еще, возносясь выше и выше над неуклонно сжимавшейся под ним все тише и жалобнее рокочущей толпой. И наконец, когда эта толпа превратилась в крохотную безмолвную едва-едва шевелящуюся вошь, откуда-то из одному ему доступных поднебесных высот уронил он свое царское слово.
— Магистра Василия обесчещенного и поруганного навеки изгнать из Романии, дабы жалкую жизнь свою он окончил в страхе, слезах и нищете на бесплодной чужбине. Кладону и Филиппу повелеваю незамедлительно на глазах всего ромейского народа отрезать носы и отрубить уши. Филадельфу, Лисимаху, Георгию и всем остальным здесь же выжечь глаза раскаленным железом…
Толпа горлопанила без перерыва, не помня себя от радости, ведь эти люди, там, внизу, еще недавно держали в своих руках все на их взгляд мыслимые и немыслимые наслаждения самой лучшей жизни, а теперь можно зреть воочию, как жребий их сделался куда незавиднее удела бедного и больного большинства. Каждая разбитая на площадке ипподрома жизнь воспринималась зрителями, как личный подарок василевса. Ах, они не знали, они обиделись бы, что добрую дюжину жизней знать припрятала от них, чтобы самим единолично после вечерней трапезы направиться в дворцовый зверинец и поглядеть, интересно ли будут вести себя те жизни, если поместить их в клетки со львами, которые ровно неделю не видели ни кусочка мяса.
Прочих деятельных приверженцев восхождения на престол Константина, более заметных или более влиятельных, тоже вскоре постиг «справедливый суд христов», правда суд тот вершился не столь публично. Мануила Куртикия, сразу же после низложения Романа Лакапина получившего титул патрикия и назначение друнгарием виглы, отправили по каким-то делам на Крит, откуда он больше не вернулся. Говорили, что утонул. Мариана Аргира, по воле Константина сменившего монашеское облачение на золото одежд Дворца, ставшего также патрикием, а еще управляющим царской конюшней, убила жена. Ходили слухи, что она уронила на его голову каменную плиту, и никто не давал себе труда задуматься, что для того эта маленькая женщина должна была бы обладать силой Киклопа. А стратига Диогена просто проткнули двумя копьями.
Поскольку тело ветра было наполнено снегом, его можно было видеть глазом. Этот бессмертный, этот двигающийся, этот истинный, извечно связующий тот и этот миры, был бел блистателен и легок. И каждый, кто видел его, размышлял о нем по-своему. Сидящий позади огня лицом к северу волхв, совершающий утреннее жертвоприношение, глядя на подвижную бесконечную снежную вечность, думал: «Тот, кто находится в ветре, не есть ветер, это всего лишь одно из его тел, одно из его бесчисленных воплощений. Тот, кто изнутри правит ветром — есть Род, безначальный, бесконечный, пребывающий в средоточии беспорядка, многообразный, единый…» А возвращающийся от реки землепашец, которому только что по счастливой случайности задалось убить палкой крупную выдру, весело поглядывая на ту же летящую снежную сеть, мерекал себе, что ежели снега будет много до самой весны, то от своей доли общинного урожая озимых он сможет отделить часть, дабы обменять ее на кой-какие прикрасы для своей жены, поскольку жена эта уже…
В наброшенной на плечи простой санной шубе из сиводушчатых лис[257] (не крытой цветной тканью) Ольга стояла в смотрильне[258] перед растворенным окном. Жгуты пакли, которыми было законопачено на зиму окно, валялись у ее ног, обутых в золотистые восточные башмаки, на один из которых нависал сползший с ноги серый вязаный чулок. Не чувствуя холода (а под шубой была одна только домашняя белая рубаха), Ольга смотрела на летящий снег, становившийся все более ярким по мере того, как убывала утренняя мгла, столь докучливая в месяце просинце[259]. Все обозримое с четырехсаженной высоты смотрильни было белым-бело, новые и новые вороха снега неслись с высот, уничтожая границу земли и неба. Лишь кое-где выглянет из молочной пелены сгибающаяся под ветром лиловая метелка голой сливы и вновь растает. Ольга смотрела на снег и думала о том, что он сейчас должно быть также устилает чистейшим искристым покровом где-то далеко в Деревской земле смоляные пепелища наполовину сожженного города Искоростеня, продолжает засыпать замерзшие красные лужи тысячами тысяч блистающих снежинок. Но он не прячет следы недавних событий, нет, он приуготовляет ей, Ольге, белый-белый, чистый-чистый путь к ее великой мечте. Ведь теперь нет перед ней преград. Еще немного времени, еще чуть-чуть терпения, — и сокровища мира, подобно этому снегу, сокроют для ее взора грязь земли, и вознесенная их сиянием она, мудрейшая из мудрых, всесведущая, непогрешимая, останется одна в тех ледяных высотах всесилия, где не может выжить ни одно из земных существований.