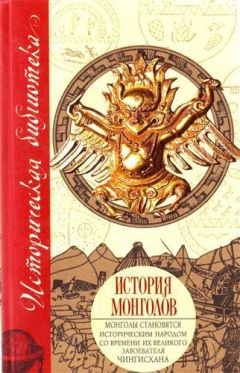Анатолий Субботин - За землю Русскую
— Эй, кто там? — крикнул.
На зов прибежал Окул.
— Где пропадаешь, пес? — сердито спросил боярин.
— Был на Перыни, осударь-болярин, — низко, касаясь рукою пола, согнулся Окул. — У старцев тамошних. Старец Мисаил, игумен перыньский, благословение свое послал тебе, осударь. Меня, немощного, к ручке своей допустил. За обедней-то я проскурочку за твое здоровье вынул… Превелики проскуры пекут на Перыни!
Окул развязал узелок, достал просфору и положил ее перед боярином.
Стефан Твердиславич надломил просфору, но не съел. Голые, обросшие жестким серым волосом ноги его вытянулись вперед. Они посинели и отлунивали мертвенной белизной.
— Оправь-ко светильно у неугасимой, — сказал. — Чадит.
Окул послюнил пальцы и оборвал ими нагар. Огонек вспыхнул ярче.
— Болярич наш, Ондрий Стефанович, пожаловал нынче… Гонцом прибыл от ладожского воеводы к князю.
— Ну-ну, слышал. Почивает он?
— Почивает, осударь, — ответил Окул. — Прибыл как — о батюшкином здоровье печалился.
— Печалился, эко диво молвил! Небось рад, что вернулся. Утром, встану как, скажи, чтобы в горницу шел.
Боярин помолчал. С улицы донесся стук колотушки. Зевая и крестя рот, Стефан Твердиславич вспомнил:
— Жбан пустой на столе. Принеси квасу да наведайся в терем к Ефросинье, не отлучалась бы из светлицы, может, соберусь, навещу.
С той поры, как после смерти отчима, боярина Вовзы Твердиславича, привезли Ефросинью в хоромы Стефана Твердиславича, редко выходила девушка за порог светелки. Сходят в праздник с мамкой к обедне ко Власию, и снова замкнется девичья жизнь. Сегодня, как вчера, рукоделье да игры с девушками, гадания да сказки мамкины. Семнадцатая весна миновала ей. Поверить Ермольевне, так краше Ефросиньи нет другой девицы на Новгороде.
Лицом Ефросинья в покойную матушку. Смуглая, с темными, как ночь, глазами, стройная и гибкая, как молодая вишенка. В какой бы наряд ни нарядилась она: рясы ли жемчужные, колты ли золотые или серебряные с мелкой зернью, каптур ли мамкин закрывает ее чело, — все идет к ней.
Стефан Твердиславич ласков с нею, ни в чем не знает она нужды в его хоромах. Но почему, как только вспомнит о боярине Ефросинья, сердце замирает от страха? При встрече с боярином — глаз не смеет поднять.
Неожиданный отъезд Андрейки на Ладогу испугал и огорчил девушку. Редко видела она боярича, мало слов сказано между ними, но Ефросинья любила Андрейку так, как любила бы братца кровного. Андрейка уехал, не простился с нею.
Стаял снег. Старый клен перед окном девичьей светлицы давно опушился первой листвой; но не радует весна Ефросинью. Тоскливо-тоскливо у нее на сердце. Сядет к окошечку, смотрит на весеннюю зеленую красу, а у самой морщинки соберутся у переносья, губы не обронят улыбки. Словно и не весна нежится в смолистой зелени старого клена, а ненастная осень дрожит на ветру.
— О чем журишься, сударушка, радость моя? — услыхала Ефросинья шепот мамки. Не видела, когда старая вошла в светлицу.
— Так я… Грустно что-то, — не оборачиваясь, шепотом же ответила Ефросинья.
— Что ты, мать моя! В семнадцать-то годков да грустно… Уж не болярича ли вспомнила?
— Нет. Сама не знаю, отчего грусть. Будто идет беда нежданная.
— Да что ты! — всплеснула руками мамка. — Откуда беда? Возьми рукодельице бисерное, развей думки.
— Не надо, не хочу рукодельничать.
— С девушками поиграц! Ну-ко покличу…
— Не хочу. Одно и одно, каждый-то день.
— Ах ты, боже ты мой! Чем же нам развеселить себя? — Ермольевна, хитро прищурив глаза, взглянула на Ефросинью. — Коли не о боляриче тоскует сердечко, так не другой ли уж молодец приглянулся?
— Что ты, мамка! — испуганно отшатнулась Ефросинья. — Не знаю я никого.
— А ты не красней, не пугайся слова! С твоей-то красой век ли одну косу плести? — не унималась Ермольевна. — Приглянулся молодец, так дознаться надо, кто он? Не по пригожести выбирают суженого, а по роду-племени.
И оттого ли, что угадала мамка девичью тоску или глупое и смешное что-то было в ее словах, Ефросинья засмеялась.
— Ой, чудная ты, мамка! Куда уж мне о суженом думать?
— Отчего же не думать, — довольная тем, что развеселила девушку, бойчее заговорила Ермольевна. — О том я тебе молвила, чего матушка родная пожелала бы. В чужом дому живем, чужую хлеб-соль едим. Угла у нас с тобой своего нету.
— Я в монастырь пойду.
— Полно, моя сударушка! Сирот, как мы, в монастырях не привечают. И бог с ними! Стара я, а не посоветую. Ну-ко, сказывай, где встретила? Не стыдись, ведь я на руках носила тебя.
— На святой… За обедней как были… — опустив глаза, прошептала Ефросинья и зарделась вся. — Кто он — не ведаю.
Глава 12
Мстиславов дуб
На улицу Ивашко вышел вместе с Гаврилой Олексичем. Звал Олексич Ивашку с собой в хоромы к Катерине Славновне.
— Ладная моя Катерина, Ивашко, — улыбаясь, хвалил Славновну Олексич. — И меду хмельного ендова и слово приветливое найдется у нее для дорогих гостей. — Не знаю ее, Олексич, как же идти без зову?
— Придешь — не обидится, тебе же на радость шепнет словечко. Один живешь, а что за жизнь одному… Сосватает тебя Катерина — хочешь девицу красную, хочешь лебедушку молодую… О твоем счастье хлопочу, не отказывайся!
— Нет, Олексич, может, в другой раз.
— Полно! Уж не нашлось ли в Новгороде голубки чернобровой, не присушила ли молодца?
— Никого у меня нет… Иди, Олексич, чай, заждалась тебя Славновна.
Расстались у моста. Ивашко постоял на берегу. Напомнила ему река Шелонь Данилову поляну, займище… Как-то живет займищанин? Небось ищет он теперь борти в борах. А Олёнушка?.. Давно ли, кажется, вместе с нею искали в бору зверя и птицу. Рядом жили… Далеко она теперь. Поглядеть бы, спросить: помнит ли о братце? Взглянуть бы на Шелонь снова. Знает ее Ивашко зимнюю, под снегом, и разлившуюся мутным весенним половодьем. Теперь река в берегах. Вот и обрыв, откуда-то издалека-издалека доносится песнь:
— Стоит во поле липинка,
под липинкою бел шатер…
Не затихла песнь в ушах, а перед глазами не Данилова поляна — овраг у Нутной. Ивашко усмехнулся, вспомнив, как упала там Васена, как взглянула в лицо ему, когда нес ее на руках… Потом встретил Васену в хоромах лучника Онцифира. Смутилась девушка. Слова не молвила. Видел Ивашко Васену и в хороводе на Буян-лугу… Прошла мимо, опустила глаза.
Не хочется Ивашке думать о Васене, а думы сами идут. Не по себе дерево подрубил, не по себе пиво сварил. От невеселых дум и на сердце горько.
На Буян-лугу людно. Скрипят качели, смех и шутки у забав скоморошьих. И Ивашко явился нынче на Буян-луг не в лаптях, не в посконной рубахе. Сапоги у него синего сафьяна с высокими каблуками, полы у кафтана обшиты серебром. Осмотрелся — не видно лица знакомого. На полюбовном кругу борцы ходят. Поглядел — не стало веселее на сердце. Молодушки окружили Омоса, потешает он их сказками да прибаутками. Ивашко прошел мимо, не остановился. На берегу Волхова в горелки играют: будто цветы расцвели белые, голубые, алые девичьи летники.
За Рогатицей, ближе к устью ручья, разрослась густая зелень ракитника, а на самом устье раскинул богатырские лапы Мстиславов дуб. Сказывают, посажен этот дуб князем Мстиславом еще в те дни, когда мастер Петр строил собор Николы в Дворищах. В ту пору будто бы на устье и дальше, по ручью, шумела роща березовая. Роща давно погибла; не осталось и людей в Новгороде, которые помнят ее. Но дуб стоит. Среди зелени ракитника вознес он гордую свою грудь.
Ивашко пробрался через ракитник к дубу и остановился, пораженный открывшимся зрелищем.
Впереди — раздолье Волхова. День тихий, многоводная река так спокойна, что смотришь — и кажется: ничто не способно всколыхнуть ее застывшего лона. Напротив, через реку, темнеют стены Детинца. Золотые шеломы святой Софии, поднимаясь над стенами, как бы сливаются с ними в одной величественной и нераздельной силе. Даже дубки и липы, зелень которых скрывает с непроезжей стороны ограду Детинца, и те будто извечно стоят тут.
От причала на перевозе в Неревском конце отвалила ладья. Забирая против течения, она шла к этому берегу. Ивашке видно, как всплескивают, ударяясь о воду, крылья весел. И при каждом всплеске их над водой дрожат белые искорки брызг. Отражая голубую твердь, река выглядит такою же бездонной, как и небо, раскинувшееся над нею.
На берегу, позади Ивашки, послышались девичьи голоса. Ивашко оглянулся. Близко, совсем близко от него девушка в алом летнике, на голове венок… Васена!
— Здравствуй, добрый молодец! Один на берегу, не любо, знать, тебе гулянье… А может, ждал кого?
— Н-нет, — промолвил. — Не ждал.
— Так ли?
— Не ждал, — повторил Ивашко. — Любуюсь на Волхов…