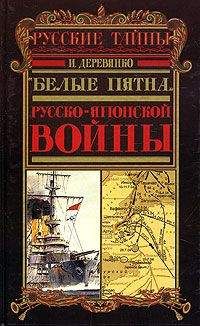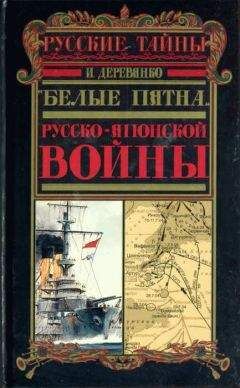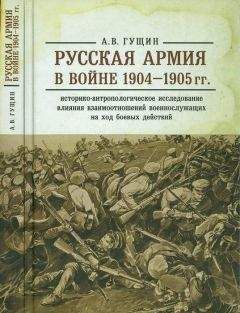Викентий Вересаев - На японской войне
Если даже признать вообще пользу отличий и орденов, то все-таки совершенно неоспоримо, что так, как награждения были поставлены в нашей армии, они приносили только вред. Странно награждать за простое исполнение долга, – ведь за неисполнение долга жестоко наказывают. Предполагается (всякий профан так именно и смотрит на боевой орден), что награжденный совершил что-то особенное, исключительное, из ряду выходящее. Но ведь таких на всю армию могут быть только десятки, ну сотня-другая. Слава их подвигов должна греметь по всему миру, имена их должны быть известны всякому. У нас же награжденных были многие тысячи, и о «подвигах» большинства можно было узнать только из наградных списков.
Понятно, что только о наградах везде и говорили, только о наградах и думали. Они мелькали кругом, маня и дразня, такие доступные, такие малотребовательные. Человек был в бою, вокруг него падали убитые и раненые, он, однако, не убежал, – как же не претендовать на награду?
Подобно офицерам, и солдаты каждый свой шаг начинали считать достойным награды. В конце года, уже после заключения мира, наши госпитали были расформированы, и команды отправлены в полки. Солдаты уходили, сильно пьяные, был жестокий мороз, один свалился на дороге и заснул. Его товарищ воротился за полверсты назад и сказал, чтобы пьяного подобрали. Назавтра он является к главному врачу и требует, чтоб его представили к медали «за спасение погибавшего».
– Ты с ума сошел?!
– Никак нет! Я вас покорнейше прошу, как я его спас, то желаю медали… Как вам будет угодно!
– Да, дурья голова, пойми ты! Медаль дается, когда человека спасают с опасностью жизни. А ты что, – версту лишнюю прошел, и за это требуешь медали!
– Как вам будет угодно! Не представите, буду жаловаться… За что обижаете?
* * *
Мы, младшие врачи госпиталя, были уже представлены главным врачом к Станиславу третьей степени и получили его за полное ничегонеделание в бою на Шахе. Теперь, после мукденского боя, главный врач представил нас к Анне третьей степени с мечами. Сестер он представил к золотым медалям на анненской ленте, а старшую сестру, уже имевшую золотую медаль, – к серебряной медали на георгиевской ленте. В мотивировке представления было сказано, что мы перевязывали раненых под огнем неприятеля. Мы смеялись и возражали, что перевязывать мы уж потому не могли, что у нас не было даже перевязочного материала. Только старшая сестра, которой для службы в ее общине очень была важна георгиевская ленточка, упорно, под всеобщими улыбками, утверждала, что она перевязывала под огнем. Главный врач всех нас в душе ненавидел, мы, не стесняясь, смеялись при нем над наградами, но он все-таки представлял нас к орденам, потому что это было выгодно; если отличились все его подчиненные, – ясно, и сам он заслуживал награды.
В султановеком госпитале дело было поставлено еще шире. Султанов представил Новицкую к золотой медали на георгиевской ленте, остальных сестер – к серебряным медалям на георгиевской ленте. Обо всех, разумеется, также было написано, что они перевязывали раненых под огнем неприятеля и что при этом особенно отличилась своею самоотверженностью сестра Новицкая.
Но начальник дивизии был у нас теперь другой. Еще к новому году прежний начальник дивизии, вялый и покладистый старик, расстроился нервами и эвакуировался в Россию. На его место попал генерал умный, энергичный и самостоятельный. В конце мукденского боя, во время всеобщей паники, он в порядке привел свою дивизию с левого фланга к железной дороге и задержал наседавших японцев. Рассказывали, что Куропаткин сказал ему: «встречаю первого генерала, который не потерял головы». Этот генерал совсем не хотел считаться с особенными симпатиями, которые питал корпусный командир к султановскому госпиталю. За неделю до мукденского боя он делал инспекторский смотр обоим нашим госпиталям, нашел у Султанова людей плохо устроенными, лошадей худыми, изнуренными, отчетность запущенною и в приказе по дивизии сделал всемогущему Султанову резкий выговор.
Теперь начальник дивизии запротестовал против султановского представления сестер к наградам. Он не находил никаких оснований выделять Новицкую из других сестер: если она действительно заслуживает золотой медали, то одинаково заслуживают ее и другие сестры. Заносчивая Новицкая ужасно этим возмущалась. Султанов давал обед. За одним столом сидела «знать», – корпусный командир, начальник штаба, Новицкая и Султанов, за другим – остальные сестры и штабные чином помельче. Адъютант сообщил сестрам, что всех их собираются представить к золотым медалям. Новицкая услышала это и громко заявила:
– Мне будет очень, очень неприятно, если меня сравняют со всеми!
После этого корпусный стал еще сильнее настаивать перед начальником дивизии, чтоб остальным сестрам были даны серебряные медали. Начальник дивизии решительно ответил:
– Вот в наградном листе графа для замечаний вашего высокопревосходительства, можете там написать, что хотите. А я своего отзыва не изменю.
Сам Султанов получил за мукденский бой очень крупную награду. Однажды, в апреле месяце, корпусный приехал на обед к Султанову и за обедом торжественно повесил ему на шею Анну второй степени с мечами.
* * *
Нас передвинули верст на пять еще к северу, в деревню Тай-пинь-шань. Мы стали за полверсты от Мандаринской дороги, в просторной усадьбе, обнесенной глиняными стенами с бойницами и башнями. Богатые усадьбы все здесь укреплены на случай нападения хунхузов. Хозяина не было: он со своею семьею уехал в Маймакай. В этой же усадьбе стоял обоз одного пехотного полка.
Наступала весна. Почки набухали, пробивались веселые стрелки молодой травы, желтоватые луговины получали зеленоватый отсвет. Однажды под вечер на дворе появился полный старик-китаец в меховом треухе, с рябым, безусым лицом. У него была старчески-добрая улыбка; он ковылял на больных ногах, опираясь на длинную, тонкую палку. Китайцы-работники, почтительно глядя на него, сообщали нам:
– Бульсой, бульсой (большой) капитан!.. Тхун-тхун хажаин!
И показывали руками кругом: хозяин надо всем.
Ковыляя на своих ножках, старик ходил по двору и осматривал его, добродушно-любезно улыбался нам, попросил у нас разрешения войти в свою фанзу. Ему позволили. Он вошел, осмотрелся. Видимо, остался очень доволен, что ничего не сломано.
– Шанго (хорошо)! – сказал он.
– Ломайло мэ ю (ломать, портить ничего не будем)! – успокоительно говорили ему.
– Шанго! – повторил он.
Сел на дворе на ящик, посасывая свой аршинный чубук. Из боковой фанзы с поднятыми верхними рамами окон доносились возгласы и пение, – у нас служили всенощную. Слышны были странные моления о страждущих, о мире всего мира… Старик с любопытством прислушивался.
Поместиться ему в своей усадьбе было негде: все было занято нами и нашею командою. К ночи старик уехал обратно в Маймакай.
Китайцы выезжали на поля. Начинался сев. Начальников русских частей объезжали два китайских чиновника с шариками на шляпах, со свитою из пестрых китайских полицейских с длинными палками. Чиновники предъявляли бумагу, в которой власти просили русских начальников не препятствовать китайцам к обработке полей. Русские начальники прочитывали бумагу, великодушно кивали головами и заявляли чиновникам, что, конечно, конечно… какой тут даже может быть разговор…
Однажды утром я услышал в отдалении странные китайские крики, какой-то рыдающий вой… Я вышел. На втором, боковом дворе, где помещался полковой обоз, толпился народ, – солдаты и китайцы; стоял ряд пустых арб, запряженных низкорослыми китайскими лошадьми и мулами. Около пустой ямы, выложенной циновками, качаясь на больных ногах, рыдал рябой старик-хозяин. Он выл, странно поднимал руки к небу, хватался за голову и наклонялся и заглядывал в яму.
В этой яме, под набросанными сверху каоляновыми корешками, у старика было зарыто четыреста пудов каолинового зерна. Сегодня утром с арбами и с рабочими он приехал, чтоб взять семена для сева, разрыл яму, – она была пуста.
Начальник обоза, флегматический капитан с рыжими, отвисшими усами, был здесь. Он с равнодушным любопытством следил за стариком, на вопросы переводчика удивленно пожимал плечами и говорил, что каоляна никто не брал.
– Николай Сергеевич, вы не знаете, – может быть, кто из наших солдат взял? – спрашивал он прапорщика. В его голосе было что-то притворное и неестественное.
– Нет!
– Брал кто из вас, ребята, его каолян? – обращался капитан к команде.
– Никак нет! – неохотно отвечали солдаты, глядя в сторону.
Старик прыгнул в яму. Он валялся на дне, корчился в конвульсивных рыданиях и что-то кричал по-китайски. Переводчик объяснил: старик просит закопать его в яме, потому что теперь ему, все равно, остается умирать с голоду.