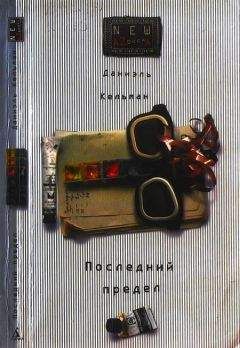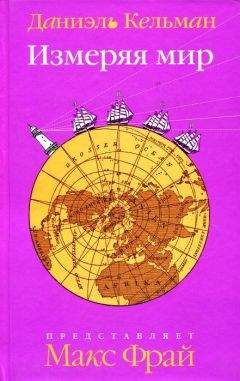Тилль - Кельман Даниэль
— Тогда мы сцедим его кровь. Столько, сколько влезет в бурдюки. Я привезу кровь в Рим и с помощью ассистентов переработаю ее в медикамент против Черной Смерти, каковой будет отправлен Папе Римскому, императору и католическим правителям…
Он помедлил.
— …а также, возможно, наиболее достойным из правителей протестантских. Кому именно, подлежит обсуждению. Может быть, таким образом будет окончена война. Было бы справедливо, если бы не кто иной как я, с Божьей помощью, прекратил сие кровопролитие. Вас обоих я надлежащим образом упомяну в своей книге. Собственно, я это уже осуществил.
— Вы нас уже упомянули?
— Для экономии времени я написал соответствующую главу еще в Риме. Гульельмо, она у вас при себе?
Секретарь, кряхтя, нагнулся и принялся рыться под сиденьем.
— Что касается музыкантов, — сказал Олеарий. — Я бы предложил обратиться в бродячий цирк, что сейчас в Гольштейнской пустоши. О нем много говорят, люди издалека приезжают поглядеть. Наверняка там и музыканты найдутся.
Секретарь выпрямился, раскрасневшись и добыв из-под сиденья стопку бумаги. Он покопался в ней некоторое время, высморкался в нечистый платок, вытер им же лысину, тихо попросил прощения и начал зачитывать из манускрипта. Латынь в его устах звучала по-итальянски напевно, и он несколько жеманно отбивал пером такт.
— В сопровождении достойных немецких ученых я незамедлительно отправился в путь. Обстоятельства были не на нашей стороне, царила непогода, да и война, хоть и отшумела уже в этих краях, все же насылала порой свои шторма, суля нам встречи с мародерами и шайками разбойников, равно как и со злонамеренными зверями. Однако я, не досадуя на судьбу, доверился Господу, что до сих пор всегда защищал верного слугу своего, и вскоре обнаружил дракона, коего удалось усмирить и одолеть благодаря знанию верных для того методов. Его теплая кровь послужила основой для многих моих предприятий, описываемых на других страницах сего труда, в числе же прочего помогла уберечь людей великих, высоких и достойных от гибельной моровой язвы, столь долго терзавшей христиан, дабы впредь она губила лишь только простой народ. Когда же я…
— Спасибо, Гульельмо, достаточно. Разумеется, после «достойных немецких ученых» я вставлю ваши имена. Не благодарите. Я настаиваю. Это мой долг.
Может быть, подумал Олеарий, это и было уготованное ему бессмертие — упоминание в книге Афанасия Кирхера. Его собственный отчет о путешествии забудется почти так же быстро, как стихи, которые время от времени отдает в печать бедняга Флеминг. Прожорливое время уничтожает почти все, но это будет ему не по зубам. Сомнений не было: пока стоит мир, будут читаться труды Афанасия Кирхера.
На следующее утро они нашли цирк. Хозяин постоялого двора, где они ночевали, сказал, что им следует отправляться на восток, и если не съезжать с проселочной дороги, то никак не заблудиться. Холмов там не было, все деревья были срублены, и вскоре они действительно увидали вдали флагшток, на котором трепетала пестрая тряпка.
Затем показались и палатки, и деревянный полукруг зрительских скамей, а над ними два кола, меж которых была натянута тонкая линия каната. Видимо, циркачи привезли древесину с собой. Среди палаток стояли фургоны, паслись лошади и ослы, играло несколько детей, мужчина спал в гамаке. Старуха стирала одежду в лохани.
Кирхер моргнул. Ему было нехорошо. То ли укачало в экипаже, то ли дело было все же в этих двух немцах. Недружелюбные, слишком серьезные, ограниченные, твердолобые, а кроме того, трудно было не обращать внимания на то, что они дурно пахли. Он давно не бывал в империи, почти забыл, как болела голова от общества немцев.
Они его недооценивали, это было очевидно. Он к этому привык. Его еще в детстве недооценивали: сперва родители, потом учитель в деревенской школе, пока пастор не порекомендовал его иезуитам. Те дали ему возможность учиться наукам, но и тут его недооценили, братья видели в нем только прилежного молодого человека — никто не понимал, что он был способен на великие дела, лишь его ментор, Тесимонд, заметил в нем нечто и извлек из толпы тугодумных монахов. Они изъездили всю страну, и он многому научился у Тесимонда, но даже тот его недооценил, отведя ему роль вечного фамулуса, так что с ним пришлось расстаться, постепенно и с большой осторожностью, ибо ни в коем случае не следовало настраивать против себя такого человека, как он. Кирхер вынужден был представлять ему свои собственные труды безобидной причудой, но тайно он посылал их с посвящениями первейшим людям Ватикана. И действительно, Тесимонд не перенес, что его секретаря внезапно призвали в Рим — заболел и отказался благословить его в дорогу. Кирхер так и видел эту сцену перед собой: комната в Вене, Тесимонд, закутанный в одеяло. Старая развалина что-то пробормотала, делая вид, что его не понимает, и Кирхеру пришлось без благословения отправляться в Рим, где его встретили сотрудники великой библиотеки, в свою очередь не замедлившие его недооценить. Они полагали, что вся его роль сведется к тому, чтобы хранить книги, изучать книги, ухаживать за книгами, им было не понять, что он быстрее мог написать фолиант, чем иной успевал его прочитать, и пришлось им это доказывать, снова, и снова, и снова, пока наконец Папа не призвал его возглавить важнейший факультет своего университета, обеспечив всеми специальными полномочиями.
Вечно так и будет продолжаться. Сумятица прошлого была давно позади, он больше не путался во времени. И все равно люди не видели, какая в нем живет сила, какая решимость, какая память. Даже сейчас, когда он был знаменит на весь свет, когда никто не мог заниматься науками, не проштудировав труды Афанасия Кирхера, — даже сейчас это вновь и вновь случалось с ним, если он покидал Рим: стоило встретиться с немцами, как он чувствовал на себе презрительные взгляды. Это путешествие было жестокой ошибкой! Нужно оставаться на своем месте, работать, сосредоточив все силы на написании книг, пока не исчезнешь за их стеной. Нужно стать бестелесным авторитетом — голосом, которому внимает мир, не задумываясь о теле, из коего этот голос исходит.
Вместо этого он снова поддался слабости. Собственно, чума его не особенно волновала, ему просто нужен был повод отправиться на поиски дракона. Это древнейшие и мудрейшие существа, сказал когда-то Тесимонд; стоя перед драконом, ты станешь другим человеком; кто единожды услышит голос дракона, для того все изменится навсегда. Кирхер уже так много знал о строении мира, и все же ему не хватало дракона, без дракона его сочинения были неполны, а если встреча с ним станет действительно опасной, он всегда сможет прибегнуть к самому последнему, самому верному средству, тому волшебству, которым можно воспользоваться лишь единожды в жизни. «Когда беда совсем близко, — учил его Тесимонд, — когда перед тобой вздымается дракон и больше неоткуда ждать помощи, ты можешь один раз, только один раз, один-единственный раз, так. что подумай как следует, один раз в жизни сделать вот что. Сперва представляешь себе самый сильный из магических квадратов:
SATOR
ARЕРО
TENET
OPERA
ROTAS
Это самый древний, самый тайный, самый мощный квадрат. Ты должен увидеть его своим внутренним взором, закрой глаза, узри его перед собой во всей ясности, и прочти, не разжимая губ, беззвучно, буква за буквой — а затем громко и четко, чтобы дракон услышал, произнеси такую истину о себе, в которой ты еще никогда никому не признавался: ни ближайшему другу, ни даже исповеднику. Это самое важное: истина, произносимая в первый раз. Тогда тебя окутает туман, и ты сможешь скрыться. Слабость охватит члены чудовища, забытье овладеет его умом, и оно не успеет тебя схватить, а когда придет в себя, то не будет о тебе помнить. Но не забудь: сделать это можно лишь единожды в жизни!»
Кирхер рассматривал свои ногти и размышлял. Если дракона не усмирит музыка, он был готов воспользоваться этим последним средством. Дракон тогда, вероятно, сожрет секретарей — жаль было бы их потерять, особенно Гульельмо, он был весьма смышленым ассистентом, — и обоих немцев, следует полагать, тоже сожрет. Но его самого спасет наука, ему бояться нечего.