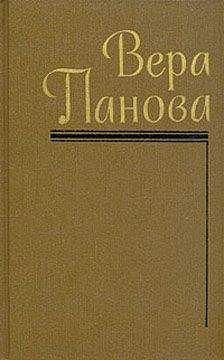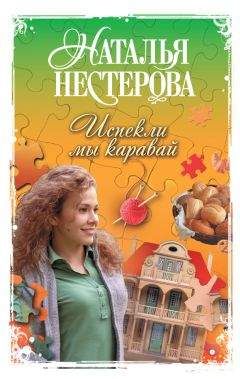Евгений Марков - Учебные годы старого барчука
— Гнусный мальчишка, крокодил, что ты пялишь на учителя свои дурацкие буркалы! Что ты отыскиваешь у учителя, чего не видал! — разразится наконец потоками гневной брани бедный Иван Никитич, обыкновенно молчаливый и неподвижный, как чёрная классная доска, его ближайшая соседка. — Ты должен смотреть в свою книгу, а не учителя разглядывать… Учитель вам не на смех тут посажен, не для того, чтобы зубы на него скалили… Вандалы… Варвары… Кимвры дикие! — осипшим голосом, кашляя и задыхаясь, шипит вне себя расходившийся старик.
В то же мгновение, будто по давно ожидаемому сигналу, все многочисленные парты класса, от первой до самой задней, ощетиниваются, как боевое поле батареями, поставленными на ребро книгами, и из-за каждого переплёта вонзается в злополучного латиниста радостно хохочущий глаз.
— Мерзавцы, подлецы, крокодилы! — топочет вне себя ногами Иван Никитич, закрывая глаза и затыкая без всякой нужды уши, вероятно, чтобы ещё более подчеркнуть свой отчаянный протест против козней класса. — Вы хотите учителя со свету сжить, вы учителю жить не даёте! От вас бежать надо, как от хищных зверей… Как от вепрей каледонских…
Он скомкивает кое-как расписанный звёздами журнал, чуть не хватает вместо шапки чернильницу и, закрыв глаза, стремительно сбегает с кафедры. Но вдруг протянутая рука неожиданно останавливает его.
— Иван Никитич. я это нечаянно, простите меня… Не уходите из класса… Я не буду! Нам всем хочется послушать вас, — лицемерно кротким голосом упрашивает наглый оскорбитель, который хорошо знает, на чьей спине прежде всего отразится столь экстренное прекращение классического образования, совсем не предвиденное инспектором Василием Ивановичем.
— Злодей, смертоубийца! — вопит, ничего не слушая, Иван Никитич. — Ты смерти учителя хочешь… Как смел ты встать со скамьи без позволения учителя? Как ты смеешь говорить с учителем? Ты должен молчать, когда говоришь с учителем!
Он путается, горячится, брызгает слюнами, оплёвывает себе синий вицмундир и белую манишку, топочет ногами, как испуганный заяц, а класс неистово веселится и ликует. Класс знает, что слабого старика сейчас уговорят вернуться на покинутую кафедру, что уж уроков он больше никого спрашивать не будет, а станет до конца класса бурчать и причитывать, и жалобить нас своею старостью и своими недугами, стыдить нас за нашу бессовестность, что он разойдётся, одним словом, как старая испорченная шарманка, которую раз заведёшь и не остановишь, которая будет шипеть и скрипеть и вертеть в раздумье свои валы, доигрывая что-то недоконченное, всё начиная и ничего не кончая, долго ещё после того, как перестанут вертеть её расшатанную ручку.
***Про одного рассказал, а вспомнил многих, и все они на один лад. Легион имя им. Довольно было сказать, что латинский учитель, — всякий сразу понимал, что за штука. Через «латынь» главным образом сыпались на наши головы единицы и двойки, через латынь постилися мы после пятичасового мучения в классах, через латынь прописывались нам субботние бани, через латынь, что было уже гораздо горше, пресекалась навсегда житейская карьера многих славных малых, не умевших почему-нибудь ладить в бесчисленными, как песок морской, правилами и исключениями грамматики Попова.
Латинский учитель — это по самой логике вещей непременно был грубач, драчун и ругатель. Поистине странное влияние классического гуманизма и классического изящества форм!
И ведь если бы у нас одних, если бы ещё в одних гимназиях! Где ж семья без урода? А то, бывало, куда ни взглянешь, всё то же. Уж на что, кажется, были переполнены классицизмом поповские семинарии? А ведь тоже что-то не слыхать было об особенном изяществе чувств, об особенной возвышенности идей ни у халатников-бурсаков, ни у почтенных отцов и наставников их, так живописно нарисованных покойным Помяловским. Ведь, коли пошло на правду, то и гоголевский Хома Брут, за три версты смаковавший верхним чутьём запах горилки, постигший печальным опытом, что кожаные кончуки отца ректора «в значительном количестве вещь нестерпимая», тоже был выше горла начинён латинскими спряжениями и греческими гекзаметрами, и вот, однако, не переродили же они сего хохлацкого философа ни в Сократа, ни в Сенеку.
Право, ввиду таких повсеместных красноречивых иллюстраций нашего домашнего быта несколько простительно было и нам усомниться в гуманитарном могуществе лексиконов Кронберга и грамматик Цумфта.
***Лиханов наш был из учителей учитель. Это был гроза и ужас всей гимназии. Дерзостью духа своего и бойкостью рук он пристыдил бы самых воинственных героев Древнего Рима. Знал он латынь до невозможности, до невероятности. Нам казалось, что сколько бы ни было на свете латинских книг, и как бы ни были они толсты, хотя бы вдвое толще самого Кронебергова лексикона, всё-таки наш Лихан знает что-нибудь ещё, чего нет ни в одной из этих ужасающих книг.
Но что было совсем возмутительно и совсем несообразно, это то, что всезнающий Лихан требовал и от нас, глупых барчуков и панычей, наехавших из степных хуторов и деревенских хором, такого же всезнания, такого же фанатического увлечения латинскими склонениями и спряжениями, каким пылал он сам. Ему, казалось, не нужно было никакой музыки, кроме сладостного журчанья времён и падежей, никакой живописи, кроме безошибочно написанных фраз extemporalia. Латинская грамматика — милая супруга его, supinum и gerundium — его дорогие сынки.
Отчаянная зубрёжка стояла громко в воздухе каждый вечер перед уроками Лихана. Все остальные науки и искусства без раздумья приносились в жертву грозному римскому богу. Лишь бы латынь с рук сошла, а об остальном какая забота! Гневная фигура Лихана, грядущая завтра в класс, заслоняла собою всех и всё и кошмаром наваливалась на душу даже самых смелых.
Наш шумный и дерзкий класс, бывало, не похож был сам на себя в ожидании Лихана. У цензоров ушки на макушке, карандашики так и бегают по бумажке, глаза по ученическим партам. Авдиторы все в горячей работе, торопятся спрашивать и ставить отметки, пока не прогремела труба архангела, и дверь класса не захлопнулась, как врата Аида. Особый махальный стоит караулом у двери, тщательно прячась за притолоку и осторожно высовывая кончик носа в опустевший коридор, который ему кажется таким же опасным, как пушки неприятеля защитникам крепости.
— Идёт, идёт! — раздаётся испуганный крик, всё опрометью мечется на свои места, и стоголовая шаловливая толпа разом смолкает в охватившем её страхе.
Быстрый и уверенный скрип сапог раздаётся в коридоре, и в ту же минуту сухая проворная фигура Лихана, ещё издали мечущая молнии сердитых чёрных глаз, с классным журналом под мышкою появляется в дверях класса.
Дверь громко стукнула.
— Читать молитву! — раздаётся строгая команда.
— Преблагий Господи, ниспосли нам благодать Духа Святаго!
Быстро, чётко читается «Молитва перед учением». Шутки и смех сами собою замирают не только на губах, но даже в глубоких недрах сердца, как летние цветы на зимнем морозе. Непривычная атмосфера трудолюбия и серьёзности охватывает класс. Даже древние «старцы гор Ливанских» озабоченно согнули выи над латинскими книжками и изумлённо перелистывают их в мистическом ожидании, что их внезапно осенит свыше дух мудрости, и они сами собой вдруг познают никогда ранее не ведомое.
— Антонов, Белокопытов, Шарапов! — сыплется, как перекрёстный ружейный огонь, быстрая перекличка, и всепроникающий гневный глаз, не отрываясь, следит за всеми этими Шараповыми, Белокопытовыми, Антоновыми, что поочерёдно вскакивают, будто молоточки фортепьян под беглою рукою музыканта, и с такою же автоматической быстротой мгновенно спускаются в сплошные ряды красных воротничков и медных пуговиц, покрывающие собою многочисленные скамьи класса.
— Здесь-здесь-здесь! — то и дело звенят на все тоны, будто бубенчики разного калибра и фасона, торопливые голоса.
А у француза, у географа, у всех тех, кого класс давно одолел, и кого самого давно одолела классная скука, эта обычная эпидемия старых учителей, уж никак не меньше получаса проходило в этом бесхитростном упражнении ученической и учительской лени. Каких бесед не подымали мы тут с красноречивым Pralin de Pralie, какие интересные новости о самих себе и своих товарищах успевали при этом сообщать любознательному географу.
Но у страшного Лихана всё катилось по струнке и всякая минутка была сочтена. Зевать и почёсывать бока было некогда. И глазами, и ушами пристынь к нему, жди и лови каждое слово. А не то — раз, два, и пролетела мимо; Лихан никогда не повторял того, что раз спросит. Его гневные глаза, как электрическая искра, облетали разом весь класс, в одно и то же время сверкая и на меня, и на моего соседа, на задние и передние скамейки, на авдиторов и цензоров, на первых учеников и одряхлевших лентяев «гор Ливанских». Он всё видел, всех считал, за всеми следил. Казалось, он прожигал ядовитыми лучами своих пронзительных глаз даже доски парт, и видел всё, что делалось и скрывалось под ними, так же ясно, как на столике кафедры.