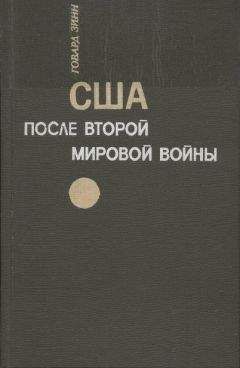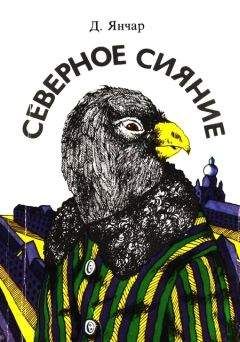Серена Витале - Пуговица Пушкина
Урок поэзии. Урок тайны. Урок для посвященных.
Возможно именно verité — то слово, которое скрывается за суффиксом, столь дорогим нашему сердцу. В этом случае мы должны были бы принять наиболее широко распространенную версию толкования текста: «Он сказал вам, что я подозреваю правду и что моя жена так боялась скандала, что потеряла голову». Правда — не более и не менее. Но какая правда?
Введя наших терпеливых читателей в лабиринт, из которого нет выхода, мы не настолько жестокосердны, чтобы просто бросить их там. Они по крайней мере заслужили догадку, предположение. Так вот она, основанная на самой слабой из улик, то, о чем тоненький льстивый голосок долго бормотал из суфлерской будки: у Пушкина не было никаких доказательств; вовсе не Якоб ван Геккерен написал или инспирировал «дипломы». Давайте обратимся к подозреваемым последней очереди, молчаливым, покрытым пылью и прахом времени: тщеславный, высокомерный министр народного просвещения; угрюмая дама по прозвищу Меттерних; иезуит с ангельским взглядом; хромой шут. Если бы выбор пал на кого-то одного из этих четырех — следует направить указующий перст обвинения на Петра Долгорукова.
Как-то вечером в начале ноября 1836 года за столом с остатками богатого банкета и обильных возлияний кто-то прошелся насчет оскорбительных писем, которые долго развлекали Вену: «дипломы» вора, скупца, рогоносца, лакея. «Диплом» рогоносца немедленно привлек интерес собравшейся компании — горстки молодых представителей петербургского общества, — ив атмосфере пьяного бесшабашного веселья резвая группа начала составлять список сограждан, за чей счет она могла бы повеселиться. Но этот список был весьма обширен («Уже теперь нравственность в Петербурге плоха, — имел обыкновение говорить Пушкин, — а посмотрите, что скоро будет полный крах»), и ночь почти уже прошла. Выполнение восхитительного проекта пришлось отложить. На следующее утро, до начала следующего праздного дня, князю Петру Долгорукову вспомнился кутеж прошлой ночи. Как это никто не подумал о Пушкине? Вот уж славная была бы история! Его жена обманывала его с Дантесом, а он обманывал ее со своей невесткой Александриной; Дантес обманывал Геккерена с Натальей Николаевной, а Наталью Николаевну — с ее сестрой Екатериной. Надменный надутый поэт должен был писать скорее историю рогоносцев, чем историю Петра Великого. Довольный собственной выдумкой, Долгоруков решил дать ей развитие. Восстанавливая краткий текст по памяти, он добавил титул историографа к коадъютору Ордена Рогоносцев. У него не было сомнений, кого назвать гроссмейстером Ордена; кандидатура непременного секретаря требовала минутного раздумья — и он остановился на Иосифе Борхе, чья ситуация предполагала полную гамму женских измен — от извозчика до царя. Теперь ему понадобилась печать, которая придала бы правдоподобие его работе. Он взял лист бумаги и нарисовал круг с разными масонскими символами в центре. Извольте, г-н Пушкин, поломать голову, вспоминая всевозможные объединения «вольных каменщиков» Петербурга! Чтобы разжечь любопытство поэта, далее он изобрел причудливую монограмму: /Якоба Геккерена, переплетенная с Л Дантеса (д’Антее), представляла любовную интригу, которую красивая, но недоверчивая Натали теперь угрожала разрушить. Он увенчал свой проект изображением кукушки — злосчастной небольшой птицы, чье имя стало символом рогоносцев, не позаботившись о том, чтобы снабдить ее однозначной парой рожков, чтобы избежать любого сомнения относительно ее назначения. Увлекшись процессом, он добавил толстый хвост в форме гусиного пера — точно такого, какой Пушкин получил в подарок от Гете и который теперь красовался на его столе. Пусть пишет трактат о рогоносцах со всем этим! Он вручил свое произведение слуге для передачи граверу, который уже несколько раз послужил ему в прошлом верой и правдой, затем переписал краткий оскорбительный текст поддельным, искаженным почерком. В конце концов, почему посылать письма только Пушкину? Этот «диплом» — настоящий маленький шедевр; было бы жаль скрыть его от петербургского общества. А кроме того, было бы хорошо получить максимальную пользу от печати, которая стоит денег (стоимость производства плюс щедрые чаевые, чтобы гарантировать молчание мастера). У него кончилась бумага. Он взял несколько листов из кабинета Ивана Гагарина и возвратился, чтобы продолжить работу. Восемь экземпляров, возможно, девять. Этого должно хватить, поскольку он уже устал. Затем он придумал адресатов — друзей и знакомых Пушкина — первых, кто приходил на ум, тех, чьи адреса он помнил или имел под рукой. Все было готово к тому времени, когда слуга возвратился со свежеизготовленной гравером печатью. Долгоруков приказал слуге написать «Александру Сергеевичу Пушкину» на обороте каждого диплома и несколько минут спустя послал его с запечатанными письмами к одному из многих — и отнюдь не по соседству — почтовых отделений города. Так все случилось 3 ноября 1836 года, будто действовал тайный и дьявольский замысел рока: неожиданный удар в спину от бога причуд и совпадений был наиболее «пушкинским» из всего, что могло с ним случиться, позволившим ему увидеть связь между спланированной атакой клеветника и некоторыми другими событиями, которые произошли в недавние дни. Зимой 1836—37 года петербургская почта доставила «дипломы» рогоносца и другим жертвам той же самой компании весельчаков, которые активно принялись за работу. Все эти письма повлекли за собой вспышки гнева, возмущения, несколько семейных ссор — но не дуэли! — и закончили свой путь в огне камина.
Признаемся: нет никаких доказательств. И мы не имеем ничего лично против Долгорукова. Несмотря на долгое и небезосновательное предание, мы бы предпочли пойти в другом направлении; может быть, в одном из направлений, упомянутых Трубецким: «Урусов, Опочинин, Строганов». Но мы не знаем, был ли любой из них, подобно Долгорукову, так близок к Геккерену и сочувствовал ли его любовным мукам, был ли дружен с Петром Валуевым (от которого Долгоруков мог слышать о бурях, бушующих в пушкинском семействе), со Львом Соллогубом (от которого мог знать, что его младший брат Владимир гостил у тети Васильчиковой в начале ноября 1836 года) и с братьями Россет, чей адрес хромой князь, товарищ Карла Россета по Пажескому корпусу, знал очень хорошо. И при этом мы не знаем, был ли кто-то из них регулярным посетителем в доме Карамзина — а Долгоруков был. Но более всего, этот молодой человек был изощренным проказником. А Судьба всегда знает, где найти себе чернорабочих.
Анна Ахматова тоже считала Долгорукова виновным — но в союзе с Геккереном и Дантесом. И она обвиняла его еще кое в чем. Удивленная, как и мы, тайной вычеркнутых Пушкиным строк, она сделала свои заключения:
Наталья Николаевна… конечно, не могла знать, что в посольстве фабрикуется документ, порочащий ее честь. Прибавим к этому, что своими сведениями Пушкин очень гордится и непоколебимо уверен в их достоверности. Понимать это надо так: некто присутствует при разговоре Геккерена с Дантесом, при нем же решается «le coup décisif»(«решительный удар») — анонимные письма, затем это лицо идет к Пушкину и все ему рассказывает, чем дает ему возможность втоптать посланника в грязь, но, очевидно, по совершенно понятным причинам это лицо пожелало остаться неизвестным… здесь можно предположить двойную игру Долгорукова. Не он ли информировал Пушкина и дал ему материал для ноябрьского письма?
Давайте попробуем развить эту интересную догадку: чтобы развлечь себя и далее ловлей рыбки в мутной воде, Долгоруков обеспокоился сообщить Пушкину, что 2 ноября он был свидетелем разговора между Геккереном и Дантесом — очень важного разговора, как он сказал, в процессе которого они пригвоздили к позорному столбу поэта и его жену. Тогда будет понятно, почему Пушкин козырял своей уверенностью — чуть было не сказала «уликой» — относительно присутствия свидетеля, когда писал голландскому посланнику. Но как мог Долгоруков объяснить свое присутствие при такой деликатной беседе, не возбудив подозрений поэта? Очевидно, что Геккерен и Дантес рассуждали бы о «решающем ударе» только в присутствии сообщника, а не случайного гостя. Опять не можем согласиться с Анной Ахматовой.
Александр Карамзин брату Андрею, Петербург, 13 марта 1837 года: «Дантес был пустым мальчишкой, когда приехал сюда, забавный тем, что отсутствие образования сочеталось в нем с природным умом, а в общем — совершенным ничтожеством как в нравственном, так и в умственном отношении. Если бы он таким и оставался, он был бы добрым малым, и больше ничего; я бы не краснел, как краснею теперь, оттого, что был с ним в дружбе, — но его усыновил Геккерен, по причинам, до сих пор еще совершенно неизвестным обществу (которое мстит за это, строя предположения). Геккерен, будучи умным человеком и утонченнейшим развратником, какие только бывали под солнцем, без труда овладел совершенно умом и душой Дантеса, у которого первого было много меньше, нежели у Геккерена, а второй не было, может быть, и вовсе. Эти два человека, не знаю, с какими дьявольскими намерениями, стали преследовать госпожу Пушкину с таким упорством и настойчивостью, что, пользуясь недалекостью ума этой женщины и ужасной глупостью ее сестры Екатерины, в один год достигли того, что почти свели ее с ума и повредили ее репутации во всеобщем мнении. Дантес в то время был болен грудью и худел на глазах. Старик Геккерен сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына, потом стал грозить местью; два дня спустя появились анонимные письма. (Если Геккерен — автор этих писем, то это с его стороны была бы жестокая и непонятная нелепость, тем не менее люди, которые должны об этом кое-что знать, говорят, что теперь почти доказано, что это именно он!)».