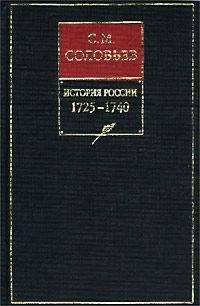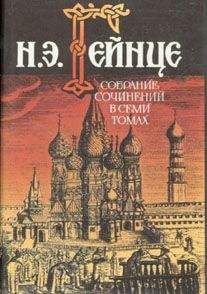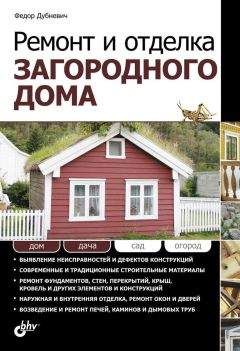Николай Гейнце - Генералиссимус Суворов
— Благодетельница, кабы вы так все, ваше сиятельство, устроили, жизни, кажись бы, для вас не пожалела, а не то что какие-то записочки.
Княжна наклонилась к лежащей у ее ног молодой девушке.
— Встань, встань, принеси записки, так все и будет.
Поля приподняла с пола голову, поймала правую руку княжны и стала покрывать поцелуями, обливая слезами.
— Благодетельница, благодетельница, ваше сиятельство! — бормотала она.
— Встань, встань, — повторила княжна.
Поля встала.
— Только смотри, чтобы ни одна живая душа не знала о том, что ты мне передала записки.
— И что вы, ваше сиятельство, — проговорила Поля, утирая передником слезы. — На духу не признаюсь.
— Тогда все будет так, как я сказала. Иди же и постарайся вырваться, скорее принести записки. Я целый день буду дома. Стеше, если будет спрашивать, скажи, что я расспрашивала тебя о том, грустит ли княжна Варвара Ивановна о своем женихе.
— Слушаю-с, ваше сиятельство, будьте покойны.
Поля вышла.
Княжна Александра Яковлевна осталась одна. Долги ей показались эти часы ожидания. Она взялась было снова за книгу, но тотчас же бросила ее. Строки прыгали у ней перед глазами, она не только понять, но даже связать ни одной фразы не могла. Записки, хранящиеся в ящике под зеркальцем, были центром всех ее дум.
Что заключалось в них? Быть может, разгадка всего того, что хотела, но не успела сказать Капочка перед смертью, а быть может, это какие-нибудь хозяйственные записки. Но все равно, если есть записки, они не должны попасть ни в чьи руки, кроме рук ее, княжны.
А если, в самом деле, Кржижановский проболтался перед своей любовницей, а та могла пожелать сообщить все это своей подруге перед тем, как принять яд, если она на самом деле отравилась?
Княжна Александра Яковлевна имела более, чем княжна Варвара, оснований полагать, что все сказанное Капочкой в притворе храма Донского монастыря сущая правда. Эти мысли в различных вариациях затемняли голову княжны. Прошло уже несколько часов.
Княжна в нетерпении ожидания не могла сидеть на месте и нервно ходила по своему будуару. В дверях появилась Стеша.
— Там опять пришла Пелагея, — угрюмо сказала она.
Видимо, она была недовольна, что от нее что-то скрывают.
— Зови, зови скорей! — заторопилась княжна, потеряв от радости всякое самообладание.
Не успела Стеша выйти, как следом за ней вошла Поля и уже сама плотно затворила дверь и поправила портьеру.
— Вот, ваше сиятельство, — подала она княжне несколько мелко исписанных листов бумаги.
— Это все? — быстро выхватила записки княжна.
— Все-с.
— Благодарю тебя. Я не забуду своего обещания.
— Мы, ваше сиятельство, недели через три уезжаем в деревню, — заметила Поля.
— Я устрою все раньше, не беспокойся. Ты можешь мне верить?
— Помилуйте, ваше сиятельство, как не верить. Княжна дала поцеловать Поле руку.
— Ступай и будь покойна.
Как только портьера опустилась за горничною княжны Прозоровской, княжна Александра Яковлевна принялась за чтение переданных ей Пелагеей листочков.
Выражение лица княжны, то вспыхивавшего ярким румянцем, то покрывавшегося смертельной бледностью, доказывало, что записки, которые она держала в руках, куплены ею недорого. Они оказались дневником несчастной Капочки, веденным с того рокового вечера, в который она подслушала разговор Кржижановского с графом Довудским.
Кроме излияния наболевшей души, в нем были сгруппированы подавляющие факты для обвинения Сигизмунда Нарцисовича. О княжне там не было даже намека. Александра Яковлевна вздохнула свободно и, бережно сложив листики, спрятала их в потайной, одной ей известный ящичек стоявшего в будуаре секретера.
Пусть она во власти этих двух негодяев, но в их молчании она уверена как в молчании сообщников, и, наконец, она от них покупает его, позволяя себя обкрадывать одному из них — графу Довудскому Она может, в конце концов, выделить им известную сумму и удалить от себя навсегда. Ее состояние все-таки останется огромным. Она еще может быть счастлива!
Счастлива! При этом снова за последнее время почему-то вспомнилось ей лицо юноши с устремленными на нее, полными восторженного обожания, прекрасными глазами. Этот юноша был армейский офицер Николай Петрович Лопухин, сын небогатого дворянина, товарищ ее детских игр, хотя он был моложе ее лет на пять.
Ей казалось теперь, что только один он любил ее за нее самое, а не за богатство, к которому она в глазах других ее поклонников — она чувствовала это — была каким-то ничтожным придатком.
Где-то он теперь?
Она помнит, что когда он ехал в Польшу, назначенный в действующую армию, он со слезами на глазах просил ее дать ему медальон с ее миниатюрой. Он говорил, что он будет ему талисманом, который охранит его в опасности. Она сама надела ему этот медальон на золотой цепочке на шею. Он поцеловал ее руку, и горячая слеза обожгла ее. Княжна почувствовала даже теперь этот ожог на своей руке. Потом она почти забыла его.
Теперь она вспомнила и, странно, вспомнила при слове «счастлива». Было ли это воспоминанием прошлого детского счастья или же это предвещание на будущее.
Княжна ходила по своему будуару и остановилась перед большим туалетом. Долго смотрела она на свое отражение. Улыбка озарила ее лицо.
Она еще молода и хороша! Она еще может быть счастлива!
Вдруг ей показалось, что она видит за своими плечами лицо умершего брата. Она вздрогнула и быстро отошла от туалета.
— Граф Довудский, — доложила вошедшая Стеша.
Княжна Александра Яковлевна почти обрадовалась приходу даже этого ненавистного ей человека. Она была все-таки не одна.
XIII. Фитиль на пушке, Суворов в поле
Николай Петрович Лопухин, о котором начала вспоминать княжна Александра Яковлевна Баратова в наступившие после сплошных дней веселья тяжелые дни своей жизни, был тот самый молодой офицер, которого мы видели тяжело раненным в стычке с конфедератами и за которым с такой отцовской нежностью ухаживал Александр Васильевич Суворов.
Старик фельдшер был прав, сказав, что натура лучше врача. Недели через две молодой офицер был уже на ногах «молодец молодцом», как предсказал ему Суворов.
Александр Васильевич взял его в свои адъютанты. Ему уже давно полюбился этот всегда грустный, мечтательный юноша, с редкой, однако, исполнительностью относившийся к своим обязанностям.
Молодой Лопухин прибыл с частью своего полка, расположенного в Москве и назначенной для соединения с корпусом, одной из бригад которого начальствовал Александр Васильевич Корпус этот в ноябре месяце 1768 года находился в Смоленской губернии, бывшей тогда пограничной. Суворов со своей бригадой должен был там перезимовать. Во всю зиму он держал свою бригаду в такой дисциплине и таком порядке, как будто бы он был в виду неприятеля.
Обучение солдат шло непрерывно. Часто в полночь, в самый жестокий мороз он приказывал бить тревогу, и полк его должен был собираться в несколько минут. Иногда тревога делалась как бы для отражения неприятеля, в другой раз для нечаянного нападения на него, и Суворов сам вел полк ночью через леса, в которых не было и следа дороги, заставляя солдат в походе стрелять в цель, рассыпаться в разные стороны, нападать бегом и атаковать штыками в сомкнутом фронте.
Солдаты беспрекословно следовали за своим начальником и смотрели на него, как на существо сверхъестественное. Каждое слово его считалось законом: что сказано, то и сделано. Солдаты гордились тем, что они «суворовские».
Гордились своим командиром и офицеры. Особенно благоговел перед Александром Васильевичем Николай Петрович Лопухин Он видел в нем свой идеал и старался не только исполнением, но даже предупреждением его распоряжении всецело понять их дух и целью приблизиться к этому идеалу.
Суворов при своей необычайной зоркости, конечно, не мог этого не заметить и приблизил к себе печального юношу и исполнительного служаку. Александр Васильевич, несмотря на свою наружную резкость, был человеком добрым, сердечным и отзывчивым к людскому горю. Это чувствовалось людьми, на сердце которых была истинная печаль.
Николай Петрович открыл ему рану своего сердца. Он рассказал ему о своей безнадежной любви к подруге своего детства княжне Баратовой, описав ее Александру Васильевичу яркими красками влюбленного. Он перед ним излил свои опасения и надежды. Последние родились при прощании с княжной, когда она исполнила его просьбу и сама одела ему на шею медальон со своим миниатюрным портретом.
Эти-то надежды, как это ни странно, и отравляли существование молодого человека. В надеждах всегда неизвестность, а последняя, особенно продолжающаяся долго, хуже всякого