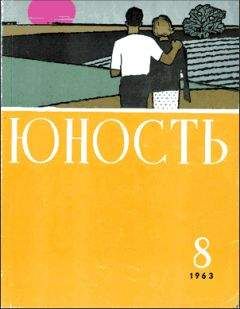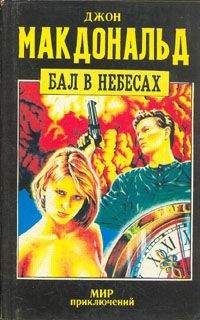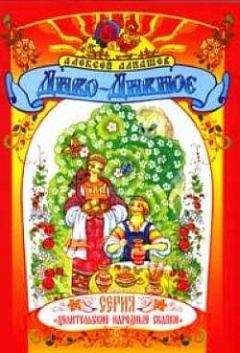Анатолий Виноградов - Повесть о братьях Тургеневых
Дворцы, немые и таинственные, огромные, как сооружения египетских времен, молчаливо смотрели на Неву, люди казались маленькими, у подъездов и вестибюлей, под колоннами и кариатидами, несущими балконы дворцов, человеческая порода мельчала, и, торжествующе попирая ногой отдельные личности, надо всем Санкт-Петербургом осуществляла свою власть идея императорской России.
– Знаешь, Якубович, – сказал Каховский, – мне недавно шведский адмирал за пуншем сказал, что «Нева» не русское слово: Нью – значит новая, молодая река. Знаешь, конечно, я офицер, мне можно не заниматься науками, однако ж я был у Николая Петровича Румянцева. Старик говорит: «Васильев остров и Петербургская сторона были известны еще старинным новгородцам, и псковская летопись упоминает остров святого Василия и Фомин остров». Я кричал на ухо бывшему канцлеру: «Там, говорю, еще упоминается финский остров Сандуй». А он мне с трубкой около уха, щуря глаз, говорит: «Санкт-Петербург, знаешь, что такое Санкт-Петербург? Город святого Петра, апостола, отверзающего двери ада и рая...»
* * *Александр Иванович Тургенев пробудился от послеобеденного сна. Встал, надел шлафор и мягкие туфли. В устах его звучали слова:
Отуманилася Ида,
Омрачился Пелион.
Спит во мраке стан Атрида.
На равнинах битвы – сон.
Прошел по комнате раза три, подумал: «Что за чудо этот Жуковский? Ведь эти строчки о похоронах Ахилла способны довести до самозабвения».
Где стадятся робки лани
Вкруг оставленных могил.
... ... ...
... ... ...
Ты не жди, Менетий, сына -
Не вернется твой Ахилл...
Раздался стук в дверь. Прихрамывая, вошел Николай Иванович.
– Ecoutez, mon cher, – сказал он по-французски, – je connaissais votre ami Pouchkine, qui vient de disparaitre[30].
Александр Иванович оступился, скинув туфлю и оттопырив большой палец левой ноги, сел, опустив руки по налокотникам большого кресла.
– Как? что? – спросил он.
– Да, да, – сказал Николай Иванович, переходя на русский язык. – В нашей трактирной империи все идет вверх дном: только что успокоились оттого, что хамы и канальи отправили моего единокровного брата и лучшего друга Сережу в Константинополь, где свирепствует чума, а тут еще этого весельчака арапа, не то Ганнибала, не то Пушкина, черт его знает кто... отправили в ссылку на юг. Все для того, чтобы лучшие люди подохли позорной смертью. Объясните мне, пожалуйста, Александр Иванович, что это все значит? Неужели за те стихи, что спрятаны у вас в бюваре?
Александр Иванович ничего не мог объяснить. Он сидел в кресле желтый, с повисшими руками, с отвисшей нижней губой и говорил:
– Сверчок, сверчок, что с тобой сталось? Как я тебя торопил, чтобы ты кончил поскорее «Руслана». О каналья, о сокрушитель сердец, Сашка, Сашка, негодяй, не я ли выполнял все твои прихоти, дарил мои последние деньги всем, кому ты укажешь.
– Ну, положим, Alexandre, деньги у вас далеко не последние!
Александр Иванович успокоился, подошел к письменному столу, вынул листок желтой бумаги и стал читать, пользуясь терпеливым слушанием брата:
Тургенев, верный покровитель
Попов, евреев и скопцов,
Но слишком счастливый гонитель
И езуитов, и глупцов,
И лености моей бесплодной,
Всегда беспечной и свободной,
Подруги благодатных снов!
К чему смеяться надо мною,
Когда я слабою рукою
По лире с трепетом вожу
И лишь изнеженные звуки
Любви, сей милой сердцу муки,
В струнах незвонких нахожу?
Душой предавшись наслажденью,
Я сладко-сладко задремал...
Один лишь ты с глубокой ленью
К трудам охоту сочетал;
Один лишь ты, любовник страстный
И Соломирской и креста,
То ночью прыгаешь с прекрасной,
То проповедуешь Христа.
На свадьбах и в Библейской зале,
Среди веселий и забот,
Роняешь Лунину на бале,
Подъемлешь трепетных сирот,
Ленивец милый на Парнасе,
Забыв любви своей печаль,
С улыбкой дремлешь в Арзамасе
И спишь у графа де Лаваль.
Нося мучительное бремя
Пустых и тяжких должностей,
Один лишь ты находишь время
Смеяться лености моей.
Не вызывай меня ты боле
К навек оставленным трудам:
Ни к поэтической неволе,
Ни к обработанным стихам.
Что нужды, если и с ошибкой
И слабо иногда пою?
Пускай Нинета лишь улыбкой
Любовь беспечную мою
Воспламенит и успокоит !
А труд – и холоден, и пуст.
Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст!
Глава двадцать пятая
Неподалеку от Неаполя есть маленький городок Нола. В городе были казармы драгунского полка. Старые драгуны помнили далекую северную страну, с которой пришлось столкнуться дважды: за Альпами в качестве побежденных, в московских снегах в качестве победителей. Испытав в жизни много, эти люди сами были готовы на многое, а самое заветное их желание – это было увидеть Италию свободной страной. Люди, жившие на Апеннинском полуострове, говорили одним языком, но делились на десятки государств, враждовавших друг с другом, благодаря искусственно подогретой вражде. Австрия была главной владетельницей Италии. Она диктовала мир и войну, она брала налоги, она под разными предлогами заставляла мирных крестьян в долинах и пастухов в горах работать на себя. Австрия в Италии все разъединяла и надо всем властвовала. Для борьбы с этой политикой поработительницы Италия пошла на организацию тайного общества. Оно было названо союзом угольщиков, по-итальянски «карбонарии». Эти угольщики повсюду имели свои организации – венты, баракки, форесты, мелкие и крупные объединения. Вента состояла из двадцати человек, и только один из них был связан с вентой другого места. В глухих лесах, где жгли уголь, устраивались сходки, сговаривались о сроках и способах связи. Так постепенно разъединенная сверху Италия объединялась в низах и подпольях. Самое большое и самое тесное объединение представляли собою войска. Ненавистные для Италии имена полков не делали солдат враждебными своей стране. Поэтому в тот день, когда драгуны получили известие об испанской революции, о том, что «Риего и Квирога подняли восстание во имя свободы своей страны», офицеры и солдаты Бурбонского драгунского полка в ноланских казармах не выдержали и, быстро поседлав лошадей, полетели в Неаполь. Они выстроились перед дворцом короля; во мгновение ока по сигналу присоединились к ним восемь тысяч карбонариев. Криками они вызвали Фердинанда на балкон и потребовали от него отречения или признания прав народа. С этого дня началась итальянская революция. Движение перекинулось на север, перевороты совершались повсюду, и эти события вызвали тревогу в сердцах самодержавных государей севера.
* * *В Царском Селе, в маленькой комнатке, обитой палевым штофом, с светло-голубыми, почти стальными карнизами из шелка и панелями серого цвета, на маленьких, почти игрушечных креслах, за маленьким столом из серого полированного мрамора сидели друг против друга Александр и Аракчеев. Серые фарфоровые чашки с густым переваренным чаем стояли перед ними. Александр любил этот напиток, отбивающий сон. Аракчеев делал вид, что тоже любит, хотя в своем Грузине, новгородском имении, в такие вечера предпочитал выпить с любовницей Настасьей Минкиной стакан анисовой водки, укрепляющей мужественность.
Нервы русского самодержца расходились; он был то очень грустен, то возбужден, на Аракчеева смотрел с надеждой. Аракчеев чувствовал это и хотел поломаться.
– Да, государь, – говорил он, – кабы я тогда был в Питербурге, твоего дражайшего родителя не тронула бы святотатственная рука заговорщиков, а сейчас я уж никуда от тебя не поеду.
Александр опустил руки и поник головой. Рядом, по дивану, были разбросаны депеши и синяя папка с запиской Каразина о дворянской конституции. Александр смотрел на эту папку с выражением какого-то ужаса, и взгляд его переходил от иностранных депеш, сообщавших о ходе европейских революций, на эту каразинскую папку, казавшуюся все более и более страшной.
– Где он? – спросил Александр, кивком головы указывая на папку.
– В Шлиссельбурге, государь. Стриженая девка косы не заплетет, как он ладожской воды нахлебается. Знаю, что и не попытаются они его спасать.
– Кто они? – спросил Александр.
– До времени не тревожься, государь. Сам веду дело и сам все узнаю. Карбонарии есть повсеместно, я всех их знаю в Питербурге. Об одном прошу, как о милости: пятеро их вскоре повергнут к высочайшему престолу ходатайство об учреждении добровольного общества в пользу освобождения холопей, – отвергни их, государь, отвергни, ваше величество, ради незабвенной памяти покойного твоего родителя, дабы они не положили начало новому якобинству в Питербурге.
Александр ничего не ответил и закрыл лицо руками. Аракчеев ехидно улыбнулся, зная, что Александр его не видит.
Чаепитие продолжалось еще около часу. Александр с восторгом говорил об организации на Карлсбадской конференции держав международной следственной комиссии по ликвидации революционного движения Европы. Ему нравилась мысль конференции об организации инквизиции в Майнце, и его в восторг приводила мысль о возникновении новой «христианской Европы, белой и чистой». Он сам считал целесообразным «жесткой метлой и стальною щеткой смывать кровавый позор европейских революций». В глубине души он был убежден что его детские увлечения либерализмом никак не отразились на состоянии умов людей, его окружающих, и что они, эти люди, всегда готовы считаться лишь с мыслями его теперешнего дня.