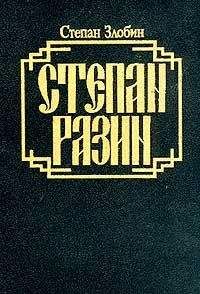Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь
Никон встал за налой. Он посмотрел на ближних богомольников, чинно, сосредоточенно стоящих у клиросов. Прихожане смотрели на патриарха с любопытством и жалостью. У Никона задрожали губы. Он собрался сначала прочесть из бесед Златоустого, прокашлялся, наставляя голос, протер губы и бороду шелковой фусточкой и вдруг сказал с хрипотцой: «Как нерадивая мать засыпает дитя свое до смерти по недосмотру иль усталости, так и мы заспали мать-церкву нашу. – Никон смешался, понял, что говорит укоризну, что вовсе лишняя при прощании. Он надолго замолчал, отыскивая верных слов, и сказал просто, устало и оттого особенно искренне; и во все время, пока каялся, тишину церкви нарушали лишь тяжелые вздохи и прерывистые всхлипы. Паства плакала, и эти искренние слезы особенно растрогали патриарха и умягчили сердце, готовое было выплеснуть много гневного на затхлость и смущения русской жизни. – Ленив я был учить вас. Не стало меня на это. От лени я окоростовел, и вы, видя мое к вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени не буду вам патриархом, если же помыслю быть патриархом, то буду анафема... Как ходил я с царевичем Алексеем в Калязин-монастырь, в то время многие люди к лобному месту собирались и называли меня иконоборцем за то, что я многие иконы отбирал и стирал. И за то хотели меня убить. Но я отбирал иконы латинские, писанные с подлинника, что вывез немец с немецкой земли, которым поклоняться нельзя. – И Никон, оборотясь, указал в иконостас, на Спасов образ греческого письма. – Вот такому можно поклоняться. А я не иконоборец. После того называли меня еретиком: новые, де, книги завел, и то чинится ради моих грехов. Я предлагал многое поучение и свидетельство вселенских патриархов, а вы в непослушании и окаменении сердец ваших хотели меня камением побить. Но один Христос искупил нас своею кровию. А мне, если побьете меня камением, никого своею кровию не избавить. И чем вам камением меня побить и называть еретиком, так лучше я от сего времени не буду вам патриархом. Предаю вас в руки Богу живому: Он да вас упасет...»
И с последними словами Никон стал разоблачаться сам: снял с себя митру, омофор, саккос. Князь Юрий Долгорукий, стоявший подле амвона, со слезами на глазах молил Никона: «Святитель, отец родимый! На кого ты оставляешь нас, сирых?» – «Кого Бог вам даст и Пресвятая Богородица изволит», – мягко ответил Никон и протянул руку за мешком с монашеским платьем, но князь Юрий перехватил патриаршью кошулю у келейника Шушеры и передал назад, в смятенную толпу. Патриарх с невольным любопытством всмотрелся в князя, в его одутловатое с залысинами простецкое лицо и вдруг вспомнил царево признание, де, лишь двое нас во Дворце и любят тебя: это он, государь, да князь Юрья Долгорукой. Вот он, последний воин за веру! Никон измученно улыбнулся и ушел в ризницу. Там надел черную архирейскую мантию с источниками и черный клобук, на углу столетни, приотодвинув стоявшие всякие церковные сосуды, принялся торопливо писать: «Великий государь! Се вижу на мя гнев твой умножен без правды и того ради и соборов святых во святых церквах лишаешь. Аз же пришелец есмь на земли, и се ныне, поминая заповедь Божию, дал место гневу, отхожу от места и града сего. И ты имаши ответ пред Господом Богом о всем дати. Будучи послушны евангельскому слову: егда изженут вас... и ныне, отходя из вашего града, прах прилипший от ног наших отрясаем и отдаем вам».
Не перечитывая, чтобы не смущать дух, Никон скрутил письмо в свиток, перевязал витым шнуром, натаял воску и в последний раз оттиснул перстнем патриаршью печать. Он взял в углу простую клюку и, выйдя из алтаря, направился в южные двери. Но православные заперли церковь и послали с известием к государю Питирима митрополита. Никон загнанно остановился посреди церкви у своего облачального места, опустился на нижнюю ступеньку, как простой паломник, и с тупым безразличием уставился в сторону западного выхода; лица прихожан как бы выплывали из тумана, белые, немые, беззвучно шепчущие что-то, и вновь западали за сизую кисею, кинжально пронизанную утренним распалившимся солнцем. На воле наконец-то разведрило, там запели птицы, и, наверное, как ладно было сейчас брести проселочной дорогой, загребая босыми плюснами жаркую устоявшуюся летнюю пыль. Никон протянул ноги и почувствовал, как устал он, будто старик. Да и то: оттопал по землице полвека, и много ли осталось коротать на миру? Воистину пора отряхать прах, чтоб ничто более не смущало душу. Никон вдруг с ужасом подумал: вот явится сейчас государь и, как шесть лет тому, падет на колени и примется умолять, чтоб остался.
Тем временем государь признавался Питириму митрополиту: «Точно сплю с открытыми глазами и все это вижу во сне». Государь отчего-то побледнел, мгновенно вспотев, и судорожно сжал бархатные подлокотники кресла. А Питирим ответил, заговорщицки понизив голос, потупив очи: «Он возомнил себя Христом земным. Он тебя, государь, к поклону ждет...» Но царь промолчал, словно бы уличенный в тайном лукавстве. Не мешкая, он отправил в собор князя Алексея Никитыча Трубецкого. Князь, войдя, попросил благословения у патриарха. Никон, не подымаясь со ступеньки, укрепив клюку меж колен, отказал, не глядя: «Прошло мое благословение. Недостоин я быть в патриархах». – «В чем твое недостоинство и что ты сделал?» – «Если тебе нужно, я стану каяться». – «То не мое дело, не кайся, – смутился князь, но продолжал домогаться ответа: – Для чего ты оставляешь патриаршество, не посоветовавшись с великим государем? От чьего гонения бежишь и кто гонит?» – «Я оставил патриаршество собою. И государева гнева никакого на меня не было. А о том я прежде бил челом великому государю и извещал, что мне больше трех лет на патриаршестве не быть».
Никон подал князю Трубецкому письмо для государя и велел бить челом, чтобы Алексей Михайлович пожаловал ему монашескую келью для житья. Князь ходил недолго, вскоре воротился и вернул письмо. Царь просил не оставлять патриаршества, а келий, передал Трубецкой слова государя, на Дворце много: в которой захочешь, в той и живи. Никон вроде бы случайно взглянул на свиток, увидел, что печать не сбита. Вздохнул. Значит, и не читано? Стоптал царь патриарха под ноги. Забывшись, Никон хлестко пристукнул клюкой о пол и гневно раздул ноздри: «Я слова своего не переменю. Я не желаю возвращения к власти, как пес ко своей блевотине!»
На паперти Никон показался смиренным. Замедлил слегка, зажмурился, – из-под принакрытых век тайком озирая Соборную площадь. Солнце завалилось за тучу, с неба вновь посеял обложной мерклый ситничек. Купола храмов влажно блестели, внизу у паперти лоснился широкий круп унылой лошади, запряженной в широкую телегу с избушкой. На передней грядке сидел конюх-монах, дожидался патриарха. Завидев Никона, он сорвал с головы скуфейку и торопливо пал на колени у колес, прямо в грязь. И огромная толпа, запрудившая площадь, всяких чинов и званий люди, с единым вздохом молча повалилась ниц. Но не успел Никон сесть в телегу, как передние московиты, обжавшие тесно паперть, вскочили, распрягли лошадь и раскатали телегу. Наивные дети, руша телегу, они думали удержать патриарха, полагая, что Никон, видя их безмерную любовь, вернется в разум, устрашится своей неслыханной досель затеи. Ибо как стоять церкви без главы? Мигом осиротеет и запустошится. От почитания всенародного, от уныния, охватившего христовеньких, патриарх не то чтобы наполнился гордынею иль осатанел еще более, но возликовал: само деяние терпко сладило душу. Никон пошел прямо на толпу, и народ невольно расступился, давая дорогу.
Никон хлюпал по лужам, не выбирая сухого места, и сразу промочил ноги: в чеботках зачвакало, взопрели онучки. И от этой решимости патриарху тоже стало сладко и горько-весело. Мигом подогнали из конюшни патриаршью карету, распахнули дверцу, подставили приступку. Никон несговорчиво миновал лакированную карету, изнутри обитую червчатыми прохладными кожами, и отправился пеши прочь из Кремля. Прихожане обогнали Никона, заперли Спасские ворота. Никон сел в одну из печур в стене, непоколебимый, решительный. Стал ждать, когда откроют. Люди теснились возле, напирали друг на друга, каждому хотелось видеть патриарха в эти крайние минуты. Живой образ Христа, которому ежедень молились неустанно, покидал паству, и ей было до ужаса страшно оставаться в миру без Отца. Передние уливались слезами, более смелые, плача, подходили к руке, и Никон всех благословлял, не проранивая ни слова. Он как бы окаменел, лишился языка. Наконец-то явился спосыланный от государя боярин, велел отворить ворота и выпустить патриарха. Никон, прибавив шагу, пересек Красную площадь и Ильинским крестцем в окружении богомольников пошел на Воскресенское подворье. С крыльца он дал благословение ревностному народу и отпустил всех. Вскоре в келью к патриарху вновь прибыл послом князь Алексей Никитыч Трубецкой и передал от государя повеление, чтобы Никон из Москвы не сходил, пока не повидается с царем. Никон обещал ждать, а не дождавшись встречи, через три дня съехал. На Новодевичьем монастыре, чтобы не появляться более в Патриаршьем дворе, он выпросил две плетеные киевские коляски, на одну сел с Иоанном Шушерой, на другую погрузили пожитки. И отправился патриарх в свою вотчину, в Воскресенский монастырь.