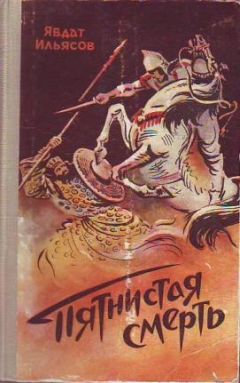Наталья Навина - Последние Каролинги – 2
Когда они остались вдвоем (точнее, это он полагал, что они остались вдвоем, Эд вряд ли замечал его присутствие), он подошел к столу и выложил то, что принес. Эд не повернул головы в его сторону, он, вероятно, решил, что Авель собирается прочесть молитву, и не обратил внимания, что в руках у Авеля вовсе не книга.
– Девять лет назад, – запинаясь, начал Авель, – к нам в монастырь явился человек, назвавшийся паломником из Святой Земли. Только это был не паломник. Это был шпион Фулька…
То, что Авель сам, по собственной воле, решился начать разговор, было уже достаточно из ряда вон. Но Эд по-прежнему не смотрел на него. Однако ж сказал:
– И вы с Фарисеем убили его. Если ты решил покаяться, то опоздал. Я знаю.
– Но это было не все. Я обыскал труп… и нашел вот это.
Наконец Эд повернулся и увидел свитки на столе.
Авель продолжал:
– Я их спрятал… и никогда, никому… даже Фарисей не знает.
Тягостный вопрос повис в воздухе, но не прозвучал.
– И теперь… я… решил… прочесть.
И, убоявшись, что Эд просит, почему он так решил – а говорить об этом Авель не хотел – он приступил к чтению. Начал он с допросных листов, поскольку все должно было идти по порядку. Хотя это был самый большой раздел, Эд ни разу не перебил его, и Авель перешел к показаниям аббата и остальных. Процесс чтения всегда отнимал у него массу сил, как физических, так и умственных, и он был полностью сосредоточен на нем, не в состоянии отвлечься ни на что другое, так как иначе бы он обязательно сбился. Однако его подкрепляла уверенность, что он способствует исполнению Божьего промысла. Поэтому, хотя чтение длилось долго – он сам не знал, сколько, но долго, и голос у него сел от непривычного напряжения, он ни разу не сбился и не потерялся. И только когда записи, совершенно неожиданно для него, внезапно кончились, Авель поднял голову. И увидел глаза Эда.
Пергаменты, которые он продолжал сжимать в руках, посыпались на стол. Ноги у Авеля подломились. Он понял, что сейчас умрет.
– Уйди, – почти беззвучно проговорил Эд.
Сам не зная как, Авель, пятясь, добрался до двери и выполз наружу. Его колотило, как в жестокую стужу. Привалившись к стене, чтобы не упасть, он стал спускаться – и всей тяжестью наехал на стоявшего под факелом часового. Тот, не разобравшись, схватил его за ворот рясы и встряхнул. Затем, разглядев в свете факела рябое лицо королевского исповедника, выпустил.
– Ты, святой отец, пьян, что ли? – спросил он.
Авель вдруг тоненько всхлипнул. Потом повернулся и, спотыкаясь, побежал к лестнице. На бегу он продолжал всхлипывать и, лишь когда ему удавалось набрать воздуху в легкие, повторял:
– Господи, прости меня! Господи, прости!
Он был убежден, что узнал уже все удары, перенес уже все, что возможно вынести, и отныне ничто на свете не способно его ранить. Он ошибался, как ошибался всегда. Судьба оказалась подобна наемному убийцу, способному долго выжидать в засаде.
…Почему-то болели руки. Он повернул их ладонями вверх и увидел, что они обожжены. Должно быть, это произошло, когда он жег пергаменты, заталкивал их в самую сердцевину пламени, чтобы изошли дымом, чтобы ни клочка от них не осталось… Тогда он не почувствовал, как пламя лижет его ладони. Теперь же ожоги дали о себе знать. Но что такое боль в обожженных руках!
Он вернулся к своему креслу, сел, закрыл глаза. Бесполезно. Пергаменты он сжег, но выжечь собственную память невозможно. Защищаясь от мыслей, которые нельзя было прогнать, подумал: если Авель никому не проговорился до сих пор, верно, не проговорится и теперь. Но если знает кто-нибудь еще, я его убью. Найду и убью. Чтобы никто, никогда…
Та часть его сознания, что способна была еще трезво мыслить, холодно отметила – вряд ли. Похоже, не осталось никого, кто помнил бы о столь давних событиях в Лаонском дворце и на парижской дороге. Старые слуги поразбежались, а мужичье, толпившееся на дороге вокруг клетки с ведьмой, либо повымерло, либо все перезабыло за давностью лет и потоком событий. Прочие мертвы. Фульк, Тьерри, аббат… Все, кто имел отношение к этой истории.
Кроме него самого.
Разумеется, он помнил историю про «ведьму в клетке», но считал ее полным вымыслом, интригой Фулька, провокацией, направленной против него, Эда. Как всегда, он думал лишь о себе. В последнем он, правда, не ошибся – была интрига, измыслил ее Фульк, и нацелена она была на него. Только ведьма существовала на самом деле.
Судьбы дважды попридержала удар – сначала когда Азарика сбежала от своих мучителей, потом когда посланец Фулька попался на глаза Авелю. Но не отвела руки теперь. Когда нельзя уже ни поправить ничего, ни отомстить.
Дьявол, какое же это мучение – не иметь живых врагов! Он почувствовал это еще тогда, когда гибель жены и сына превратила царствование в отбывание пожизненной каторги. Может, ему было бы легче, если бы он верил в колдовство, в магию, в воскрешение мертвых. Но он не верил. Мертвые – мертвы. Однако тогда он еще не знал этого…
А они знали – Фульк, Тьерри, аббат… И всю мерзость таскали с собой, приберегая для собственной выгоды. И, как по сговору, все они умерли не от его руки. Фульк… здесь все ясно. А остальные? Что заставляло их молчать – всегда быть рядом и молчать – главных соучастников? Страх, надежда на шантаж, похоть? Все вместе?
Они знали. А он не хотел знать.
Все муки, весь позор, всю грязь, в которую ее хотели втянуть, прежде, чем убить… все это его не касалось. Она должна была бороться сама. И победила – только он здесь был ни при чем.
А ведь всего этого могло не быть…
Когда-то давно, еще до свадьбы, она попрекнула его, что он не позвал ее с собой после победы под Самуром. Единственный упрек, слышанный им когда-либо от нее (поэтому и запомнил) – хотя повинен он был перед ней в гораздо более тяжких грехах. Он не задумывался, почему. А тогда беспечно ответил ей – из гордости, потому что она его не попросила. Да еще добавил – а что бы от этого изменилось?
Все изменилось бы. Все, если бы он не думал о своей проклятой гордости. Не было бы ни допросов, ни тюрьмы, ни позора, ни клетки. В конечном счете виновен был он, и стократ виновнее тех, других. Потому что они были врагами и поступали соответственно, а он…
До сих пор, в сознании своей вины он мог утешаться мыслью, что преступления его прошлого касались близких Азарики, но не ее. Были Одвин, Гермольд… но он никогда не причинял зла ей самой. И ошибался, как всегда. Вот почему она молчала. Не хотела говорить, что он, при желании, мог бы ее спасти, но не спас. Другие спасли… Знакомое имя промелькнуло в прочитанных показаниях. Имя мальчика, которому она дала приют и покровительство. Точнее, имя отца этого мальчика. «Подозреваемый в соучастии Винифрид Эттинг, ныне находящийся в заточении…»
«Вы пытали бы меня, если бы Винифрид Эттинг не поднял ложную тревогу. Это одна из причин, по которой я забочусь об его сыне…» Не напрасно, значит, Фульк его подозревал… Вот какова была вторая причина, которой она тогда не назвала, а он не спросил. Не только долг, но и вечное напоминание. Никогда она не забывала об этом и не хотела забывать. И, если бы он не был столь слеп и глух ко всему, чего не хотел знать, то понял бы.
Но почему этот Винифрид так упорно помогал ей? Может, он любил ее? Какая теперь разница… Он был женат на другой женщине, и он умер. Умер, как и прочие… Все равно, как он посмел! Только у него, у Эда, на всем белом свете было на это право. Только он мог ее любить.
Любить? Но разве любить – это отдавать на расправу? А именно так он все время и поступал с ней. Даже в самом конце, когда, уверившись в собственном благополучии, оставил ее беззащитной перед убийцами. Это – любовь?
Да, он любил ее. Но сказал ли ей об этом хоть раз? Нет. Никогда. «И здесь ты виден весь», – сказала бы матушка-ведьма. Потому что, держа свою любовь при себе, от нее требовал подтверждения постоянно – как признания на допросе. А теперь уже поздно.
…Как на допросе…
«Никогда и ни за что я не смогу причинить тебе боли».
Она тоже ошибалась. И, в конечном счете, она все же отомстила ему. Ценой собственной жизни. Кто из врагов измыслил бы подобную месть? И кто из врагов догадался бы найти уязвимое место в броне, прикрывающей кровоточащую рану?
Никто. Лишь верный друг и верный слуга. Из самых лучших побуждений, будь они прокляты!
Кого проклинать?
Если бы он позвал ее с собой после Самура…
Если бы Фульк не использовал суд над ведьмой в борьбе против него…
Но это было еще не все. Да, виной всему была его гордость. А питало эту гордость желание поквитаться со всем миром за то, как мир с ним поступил, уверенность в исключительности собственных страданий. Незаконный сын, норманнский пленник, раб на дракоре, разбойник, узник каменного мешка – кто в испытаниях был равен ему? И здесь он превзошел всех. Одного он не пробовал – пытки позором.
А девочка шестнадцати лет, истерзанная допросами, издевательствами и голодом, которую обнаженной выставляли на потеху черни, и, как зверя, таскали в клетке… хуже, чем зверя, потому что зверь своего унижения не разумеет… и не различает в окружающей клетку толпе ни потные похотливые рожи солдат, ни тупые мужицкие… и ни одного зверя не травят с такой злобой, как человека… Против нее действительно ополчился весь мир. И она не сошла с ума, не сломалась, не забилась в глушь, подальше от людских глаз… а пошла туда, где ее меньше всех ждали, где – она не могла не знать – снова встретится со своими мучителями, и бросила им вызов, и, насколько сумела, поквиталась с ними… Так кому на самом деле в жизни пришлось претерпеть худшие мучения? Или его испытания были лишь тенью того, что пережила она? И насколько эта девочка оказалась сильнее мужчины и воина?