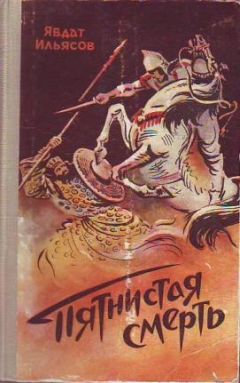Наталья Навина - Последние Каролинги – 2
Впрочем, оборвал себя Альберик, возможно, его опасения напрасны, и Эд, обложенный со всех сторон врагами, в борьбе с беспрерывным натиском вторжений и мятежей, просто не имел времени подумать о новой женитьбе и наследнике? Если бы так…
В подобных размышлениях он прибыл во дворец, более напоминавший в последние два года казарму. Его встретил Жерар и без лишних слов проводил к королю.
Погода, несмотря на то, что лето вроде бы еще не кончилось, стояла сырая и холодная, поэтому в королевских покоях жарко пылал очаг. Его пламя служило единственным освещением. У самого входа на низком табурете сидел Авель, после смерти Фортуната исполнявший должность королевского духовника. Хотя, по мнению Альберика, он скорее вернулся к своей прежней, правда, недолго исполняемой должности телохранителя Эда. Пользы от него было примерно столько же, сколько от большого верного пса – что само по себе уже немало. В руках у него Альберик приметил книгу, которую привык видеть при нем постоянно – Псалтирь, тоже наследство Фортуната. Он не читал ее, а просто сжимал в руках, точно книга могла послужить источником сил и спокойствия.
Эд сидел у огня и смотрел на огонь. На приветствие Альберика ответил молчаливым кивком.
Жерар принес вина, попробовал его – на последнем в свое время настоял сам Альберик, и тут же удалился. За ним, тяжело поднявшись со своего места, вышел и Авель, который, очевидно, почувствовал, что сеньер Верринский прибыл не просто для того, чтобы распить кубок вина со своим сюзереном. Вина Альберик, однако, выпил. Отчасти для того, чтобы согреться, отчасти, чтобы придать себе мужества. Ему было бы трудно в этом признаться, но с глазу на глаз с Эдом ему становилось не по себе. Не потому, что опасался тех приступов страшной ярости, которым был подвержен Эд. Напротив. Та бешеная вспышка под Сполето была самой страшной, но и самой последней. Ярость выгорела, и на смену ей пришел холод. Этот холод, леденящее безразличие – вот что пугало Альберика. Прежний Эд, как бы ни был он опасен, был ему гораздо понятнее. Не всякий заметил бы эту перемену, ее видели только близкие люди, а их всегда-то у Эда было мало, сейчас же осталось всего ничего. Для других Эд не стал ни менее решителен, ни менее деятелен, но Альберик видел, и страшно ему было видеть за этой решительностью и деятельностью холод там, где раньше был огонь.
… Говорят, будто норманны верят, что в преисподней царит вечная стужа. Что с них взять – темные люди, язычники…
Альберик вздохнул – и как в омут вниз головой – принялся излагать дело.
Эд слушал его, не перебивая. Такая у него привычка тоже образовалась: не вступать в разговор, предоставляя собеседнику говорить до тех пор, пока он не почувствует себя полным дураком. Чего он с успехом добился и на сей раз. Альберик мысленно проклял себя за то, что вообще начал этот разговор, но отступать было уже поздно. Он перечислил все доводы, приведенные Генрихом, а поскольку Эд по-прежнему не отвечал, принялся изыскивать дополнительные.
– Не было такого на человеческой памяти, – заявил он, – чтобы правитель доживал свой век в одиночестве. У Карла Великого только законных жен было девять…
Тут Эд, наконец, соизволил ответить.
– Если тебе охота искать примеры среди Каролингов, ты еще вспомни Гильома Тулузского…
У Альберика мгновенно захлопнулся рот. Гильом Тулузский, племянник Карла Великого и знаменитейший воитель своего времени, человек, в чьих руках империя была бы под гораздо более надежной защитой, чем под скипетром слабовольного Людовика Благочестивого, после смерти любимой жены постригся в монахи.
Эд в монастырь не ушел. И на том спасибо. Довольствуйтесь этим, болваны, и оставьте меня в покое – вероятно, именно так следовало истолковать его ответ. Альберик принялся лихорадочно искать контрдоводы.
– Она, говорят, к тому же и сарацинка была, – сам не понимая зачем, заявил он.
– Кто?
– Гильома Тулузского жена.
– Вот как.
До Альберика начало доходить, что он сморозил. Сарацинка… еврейка… тут черт знает до чего можно дойти. Поневоле пожалеешь об этой дуре Аоле, которая хотя бы была отпрыском истинно христианского семейства… и чья смерть не помешала Эду через пару месяцев жениться снова.
Сердце Альберика стало съезжать куда-то по направлению к сапогам. Он понял, что угадал самую суть. Дело не в том, что Эду некогда подумать о женитьбе, и не в том, что ему все так безразлично, а…
«И даже смерть не разлучит нас».
Ничего не оставалось, кроме как откланяться. Он спускался по лестнице в еще более подавленных чувствах, чем поднимался по ней. Разумеется, он помнил кощунственную клятву Эда во время венчания. Кощунство и вызов – именно так это и было всеми воспринято, потому и напугало. А что, если Эд и не думал никому бросать вызов? И слова эти и были тем, чем надлежало быть – торжественным обетом, произнесенным перед алтарем и который он собирался неукоснительно выполнять? И ведь выполняет же, спаси нас Господь и помилуй!
От этой догадки стало ему совсем худо. Позади затопали чьи-то тяжелые шаги. Альберик обернулся и увидел Авеля.
– Эй, приор! Ты куда это стопы свои направил?
– К себе в монастырь.
Альберик, прикинув дорогу до монастыря и побуждаемый желанием излить кому-то душу, предложил:
– Давай, я тебя провожу. Ночь уже, а обитель-то твоя на окраине… в одиночку ходить небезопасно!
Поначалу Альберик приказал было своему слуге спешиться, чтобы посадить Авеля на его коня, но приор отговорился привычкой ходить пешком и пристроился рядом со стременем сеньера Верринского. Альберик не сразу заговорил с ним. Глядя сверху вниз на тонзуру бывшего школяра, он впервые пожалел, что Авель таков, каков он есть. Если бы он был не просто псом короля, но и в самом деле, а не только по имени, его духовником! Если бы у него было хоть какое-нибудь влияние на Эда! Но понемногу язык у него развязался – слишком уж накипело – и он выложил Авелю все, что накопилось на душе. Авель внимал ему, вскинув голову, как будто от этого он мог лучше слышать. На его простодушной физиономии, белевшей в ночном сумраке, все больше проступало изумление.
– Послушай, брат, это же полное сумасшествие! Это… я даже не знаю, как сказать. Помнишь Альбоина? Так Эд поступает еще хуже. Эта посмертная верность доведет его до гибели, может, и не так быстро, как удар мечом, но гораздо вернее!
– «Что Бог соединил, люди да не разъединят», – пробормотал Авель.
– Да брось ты эти свои монашеские бредни! Пусть так говорится, но ты же, приор, живой человек, и должен понимать, что в жизни все по-другому! Разъединяют, за милую душу, и снова соединяют… Я сам человек семейный и утверждаю, что добрый христианский брак – это хорошо и угодно Богу, но это… это уже идолопоклонство какое-то!
Не умея возразить, Авель не ответил.
Альберик продолжал:
– Знаешь, что я тебе скажу? Только не пойми меня превратно… я был предан королеве не меньше твоего… а может, и побольше, если вспомнить наши школьные года – только скажи мне, что это не так! И уж конечно, не меньше твоего сожалел о ее гибели. Но сейчас я думаю: несчастье именно в том, что королева была умна, отважна и благородна… именно в ее безупречности! Если бы она была хуже, он бы не так по ней убивался. Или, скажем, так – после свадьбы ее жизнь была у всех на виду, и даже враги не могли сказать о ней худого. Но если бы в ее прошлом оказалось бы какое-нибудь темное пятно… нечто дурное, способное бросить тень на ее память… может, он нашел бы в себе силы отступиться от верности этой памяти!
Зубы Авеля клацнули, как у пса, ловящего муху. Альберик жестом предупредил готовые вырваться у приора проклятия.
– Да погоди ты! Если она сейчас на том свете меня слышит, то, уверен, кивает в знак согласия. Потому что понимает – я прав! Потому что – уж настолько-то я ее знал – она не захотела бы гибели ни мужу своему, ни королевству!
Неожиданный порыв Альберика быстро угас. А впереди уже выступали, темные во тьме, стены обители святого Медарда.
– Эх, да что гадать – «если бы, если бы»! Всегда я ругал такие разговоры, а тут сам заладил. Не было этого. Не было, и все, так нечего и придумывать. Ну ладно, доставил я тебя к братии твоей в целости и сохранности. Бывай здоров, приор, а я возвращаюсь на подворье. Напьюсь я сегодня, вот что.
Приор Горнульф воротился в монастырь как раз к повечерию, но служба прошла для него, как во сне. Он никак не мог заставить себя отойти умом от всего, что наговорил Альберик. Ибо в отличие от последнего, услышанное было для него совершенно внове. Будучи монахом, он никогда не заботился о таких делах, как вопрос престолонаследования, а уж о браке-то знал только то, что на сей счет сказано в Святом Писании. Наоборот, до сегодняшнего вечера он считал поведение Эда совершенно правильным, а отчего там происходят бунты и мятежи – не его ума дело. Его дело, как королевского духовника – молиться за короля и заботиться о спасении его души. А то, что душа Эда не окончательно погибла для церкви, получало свидетельство в щедрых вкладах и земельных пожалованиях монастырю, где были похоронены его «безвременно умершая возлюбленная супруга и единственный сын. Это свидетельствовало также и в пользу того, что Эд, каким бы грешником он ни был, все же верит в жизнь вечную и надеется после смерти встретиться с теми, кого потерял. А в остальном все просто. Как сказал апостол: «Соединен ли ты с женою? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены.»