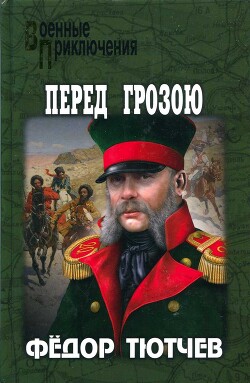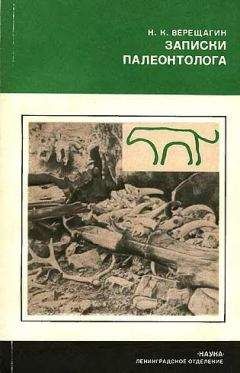На скалах и долинах Дагестана. Среди врагов - Тютчев Федор Федорович
— Вижу, — спокойным тоном перебил Панкратьев и еще тише добавил: — Вижу, дочка, все вижу, да нечего делать. Терпеть надо.
При этих словах, показавшихся Ане особенно странными, она торопливо вскинула на отца недоумевающий взгляд и тут только заметила, что и у него лицо не такое, как всегда, веселое и добродушное, а чем-то озабоченное и как бы недовольное.
"Неужели и он знает что-нибудь?" — мелькнуло в голове Ани, и ей сделалось жутко при одной мысли, как должен он, если только ее предположение не ошибочно, страдать в эту минуту. Словно в ответ на ее мысль, Павел Маркович криво усмехнулся.
— Ваня-то наш в герои захотел. Уж и рапорт по дал, просится с своими штуцерными в отряд к Фези. Богученковых насмешек, вишь, испугался.
— Что ж, папа, — делая усилие, чтобы казаться спокойной, заметила Аня, — может быть, это к лучшему. В самом деле, он еще ни разу в делах не был. Вчера ты сам же говорил, что лучше до свадьбы, — ей стоило большого труда произнести это слово, — по нюхать пороху, чем медовый месяц справлять в походе; по теперешним же временам такой случай весьма возможен.
— Мало ли что я вчера говорил, — как бы про себя буркнул Панкратьев, — а, впрочем, если и ты находишь, что ему не мешало бы немного проветриться, то тем и лучше. Пусть идет. Война — дело святое; ничто так не учит людей уму-разуму, как война. В походе человек другим становится, и всякие блажи слетают с него живо. Бог даст, и Ваня наш сходит в поход и вернется к нам прежним, разумным, милым мальчиком, тогда его и Богученковы насмешки не проймут.
Последнюю фразу Павел Маркович произнес с особым ироническим оттенком в голосе.
— Дай Бог, — сказала Аня, — но мне думается, поход мало изменит его характер, и он вернется таким же, каким и пойдет.
— Вздор! — вдруг неожиданно раздражаясь, воскликнул Павел Маркович и даже кулаком по столу стукнул. — Всяким дурачествам есть мера. Подурил, наглупил — кайся, и делу конец. Так по-моему. Не правда ли, Анюк?
Аня подняла на отца свой пристальный, полный затаенного страдания взгляд. Взоры их встретились, и в одно мгновение Аня по глазам отца поняла, что он всё знает. Чувство безграничной любви и нежности наполнило ее душу. "Какой он у меня умный, как он любит меня. Он все понял, но хранит это про себя, не унижается до жалоб и бесцельных раздражительных выходок. Как легко, как просто с ним".
Аня молча встала, подошла к отцу, крепко обняла его за шею и прижалась к его полной щеке долгим, горячим поцелуем. Павел Маркович в свою очередь и также молча, с такою же нежностью прижал ее к своему сердцу. Этой лаской, этим поцелуем отец и дочь молча дали понять друг другу, что хорошо знают чувства один другого и как бы заключили немое условие не говорить, не упоминать о том, что случилось, и молча, с достоинством, без жалоб и упреков принять обрушившийся на них удар.
Колосов уезжал через неделю. Наружно, для глаз посторонних, в отношениях его к Панкратьевым не произошло никаких перемен, он по-прежнему бывал у них каждый день, и к нему относились по-прежнему ласково и радушно. Это было тем удобнее и незаметнее, что, в сущности, для всех знакомых Иван Макарович не был официальным женихом Ани, свадьба хотя и ожидалась, но определенного пока еще не было ничего.
Дня за три до отъезда между Колосовым и Павлом Марковичем произошел небольшой, но весьма знаменательный для обоих разговор.
— Ну, Ваня, — заговорил старый полковник, — итак, ты едешь. Что ж, одобряю, дело хорошее. В по ходе, среди опасностей, ты, Бог даст, скорее опомнишься, найдешь себе точку опоры… Я знал многих людей, которым война залечила их сердечные раны, и они иными глазами стали смотреть на жизнь. Там, вдали от всяких соблазнов, ты сейчас же почувствуешь себя хозяином своих дум, скорей разберешься в истинных чувствах и увидишь, где твой настоящий берег… О нас с дочкой не заботься… Думай только о правде и поступай так, как тебе правда и сердце скажут… Если сердце скажет тебе: иди направо — ступай направо, а велит влево — влево иди. Только против совести не иди. Повторяю, о нас не думай. Слова ты нам никакого не давал, стало быть, вольный казак, вольны и мы в своих действиях. Понял? Ежели ты почувствуешь, что стосковался по нас и тебя сильно потянет к нам, ни о чем не раздумывай, приезжай, сердечно буду рад видеть тебя, да и до чурка моя тоже, хоть теперь иное говорит, а тогда, думается мне, одних со мною мыслей будет. Главное дело, ложное самолюбие прочь, много на свете горя из-за этого самого ложного самолюбия, нежелания, с одной стороны, познать свою вину, с другой — понять и простить.
Сказав это, Павел Маркович умолк и пристально посмотрел в лицо Колосову своим честным, открытым взглядом. Тот невольно опустил глаза и глухим, прерывающимся тоном отвечал:
— Хороший вы человек, Павел Маркович, есть ли еще другие такие на свете — не знаю. Знаю только, что никто бы другой не отнесся ко мне так хорошо, как вы, после всего случившегося. Я даже и благодарить не могу, слишком глубоко чувствую. Велика моя вина перед вами, очень велика, а перед Анной Павловной еще больше. Нет мне за нее прощения, и оправданий нет… Если бы вы, Павел Маркович, и ваша дочь не были такими дивными людьми, я мог бы вас утешить, сообщив, что если я причинил вам обоим горе и страдание, то сам страдаю вдвое… Не могу даже передать вам словами, как тяжело мне. Я даже не могу разобраться в своих чувствах, не могу определить, что больше всего заставляет меня страдать. Иной раз мне кажется, что самое тяжелое для меня во всем этом — обида. Кровная, жестокая обида. Подумайте — был я счастлив, доволен, впереди ожидало еще лучше, солнце светило над головой ярко-ярко, и я в его лучах, как ящерица, грелся, и вдруг пришел человек, сорвал солнце, разбросал ногами все мои радости, смел в кучу мое сокровище, и я остался в темноте, одинок, и хоть бы "он" за это дал мне что-нибудь, показал какое-нибудь внимание, а то ровно ничего… "Он" даже почти не замечает меня… Разве же это не обида? И все же я не могу винить "его" за причиненное мне разорение. "Он" сделал это неумышленно, нечаянно, сделал одним своим появлением… "Он" не виноват, но мне от этого не легче… Теперь я ухожу. Вы, Павел Маркович, так великодушны, что хотите заронить в моем сердце надежду на лучшее, на возврат утерянного счастия; благодарю вас за это, но мертвых с погоста назад не возят… Моя песенка спета… не ждите меня назад, Павел Маркович, назад я едва ли вернусь.
Панкратьев еще пристальнее посмотрел в лицо Колосову, и когда заговорил, его голос дрожал от внутреннего волнения:
— Ваня, полно, перестань. Подумай, еще вся жизнь впереди. Погляди на это солнце, на эти горы: я старик, а и то, будь моя воля, никогда не расстался бы с ними… Хороша жизнь человеческая, красив Божий мир и все в нем прекрасно, верь мне… Нет беды, которую нельзя было бы изжить, только смерть одна непоправима… Умереть же всегда успеешь. Конечно, придется в бою пойти ей навстречу — иди смело, не оглядывайся, не бойся ее, пусть она, курносая, боится тебя, но нарочно, без нужды, ради разных твоих фанаберий идти ей в лапы — то же самоубийство, та кое же, как если бы ты сам себе пулю в висок пустил или бы в петле повесился. Бой — святое дело, и пре вращать его в орудие самоубийства — великий грех и перед Богом, и перед Царем, и перед отечеством. Хороший, настоящий, честный воин на такое дело не пойдет. Верь мне. Я старый служака, сам, чай, знаешь. Несколько раз на краю жизни был, много ран на моем теле, много крови моей выпила мать-сыра земля, так, стало быть, я имею право голоса в таком деле и прошу тебя, как сына родного: не позволяй от чаянию овладевать тобой… не за понюх табаку пропадешь, и смерть твоя ни славы, ни пользы не принесет. Вот мой тебе завет.
С княгиней всю эту последнюю неделю Колосов умышленно старался не встречаться. Она заметила это, и теперь для нее не оставалось никаких сомнений в истине предположения, мелькнувшего ей тогда, ночью. Открытие это чрезвычайно неприятно поразило Двоекурову. Не чувствуя никакой вины за собой, она тем не менее не имела сил в глаза смотреть Панкратьевым, особенно Ане, которую ей было чрезвычайно жаль. Она с болезненной настойчивостью последовательно проследила все свои отношения к Колосову, и несмотря на всю строгость, предъявленную себе самой, Элен принуждена была признать, что с ее стороны не было ничего, решительно ничего такого, что могло вызвать в Колосове роковое чувство… Ничего, кроме ее наружности, но в этом она не виновата. Не виновата, а между тем горе и страдания налицо, и никому не легче от того, что нет виновных. Одно время Елена Владимировна думала было переговорить с Колосовым и постараться образумить его, но по зрелому размышлению она принуждена была признать всю бесполезность такой попытки. Страсть — чувство, не поддающееся лечению фразами, как бы они умны и благоразумны ни были, притом, к чему бы повело, если бы Колосов, послушавшись ее уговоров, и остался бы. Ане не один Колосов нужен, сам, своей персоною, а его чувство, его любовь, словом, все то, что она получала от него прежде и чего теперь получить не может. Если бы своими советами, просьбами Элен могла бы заставить Колосова разлюбить себя и вновь привязаться к своей невесте — тогда бы дело другое, но таких чудес не бывает. По крайней мере, не бывает под впечатлением слов. Это еще может случиться под давлением благоприятных условий, и почем знать; отъезд Ивана Макаровича на войну не явится ли од ним из таких, и притом самых важных благоприятных условий? Весьма возможно. Тогда, уговаривая его остаться, она только принесет вред… Долго ломала княгиня голову и, наконец, принуждена была прийти к тому выводу, что при ее положении ей ничего иного не остается делать, как оставаться безучастным свидетелем разыгравшейся перед ней драмы. Не имея сил видеть перед собой убитое лицо Ани и не менее убитого, но бодрящегося Павла Марковича, княгиня до поры до времени решила прекратить свои посещения и сидела безвыходно дома, погруженная в грустные мысли.