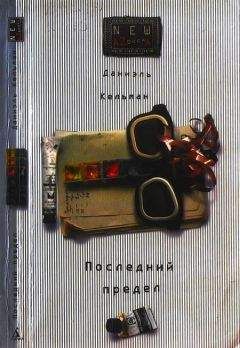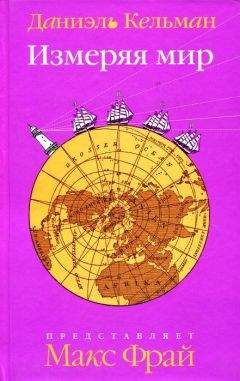Тилль - Кельман Даниэль
Но в конце концов мы утихомирились. Еще до темноты подоили коров. Вернулась мать Марты, цела и невредима, не считая пары ссадин, отец потерял зуб, и ухо у него было надорвано, а сестре кто-то отдавил ногу так, что она еще пару недель хромала. Но настало следующее утро, а за ним следующий вечер; жизнь продолжалась. В каждом доме были порезы и шишки, и шрамы, и вывихнутые руки, и выбитые зубы, но уже на следующий день на площади снова было чисто, и все были при своих башмаках.
Мы никогда не поминали того, что случилось. Никогда не поминали Уленшпигеля. Мы ни о чем не сговаривались, но все молчали, и даже Ханс Земмлер, которому так досталось, что с тех пор он не вставал с постели, а питаться мог только супом, — даже он делал вид, будто все всегда так и было. И вдова Карла Шенкнехта, которого мы на следующий день закопали на погосте, вела себя так, будто мужа ее унес удар судьбы, будто она не знала совершенно точно, чей нож торчал из его спины. И только веревка много дней еще висела над площадью, дрожа на ветру, и воробьи с ласточками садились на нее, пока священник, которому особенно досталось в драке, потому что все мы недолюбливали его за спесь, не оправился достаточно, чтобы подняться на колокольню и ее обрезать.
Но мы ни о чем не забыли. Все, что произошло, оставалось между нами. Все это было между нами, когда мы собирали урожай и когда мы торговались друг с другом, и когда мы встречались в воскресенье на службе, которую священник вел с новым выражением лица, удивленным и испуганным. А сильнее всего это чувствовалось между нами, когда мы праздновали на площади, когда плясали, глядя друг другу в глаза. В эти мгновенья нам казалось, что воздух стал тяжелее, что изменился вкус воды, что само небо стало другим с тех пор, как его рассекла веревка.
А через год и до нас все же добралась война. Однажды ночью мы услышали лошадиное ржание, потом многоголосый человеческий смех, а потом треск ломающихся дверей, и не успели мы выбежать на улицу с бесполезными нашими вилами и ножами в руках, как в небо взметнулся огонь.
Наемники были еще голоднее обычного и еще пьянее обычного. Давно они не бывали в городе, где можно было так поживиться. Старая Луиза, которая на сей раз спала крепко, безо всяких дурных предчувствий, погибла в постели. Священник погиб, пытаясь прикрыть собой врата церкви. Лиза Шох погибла, пытаясь спрятать золотые монеты, пекарь, и кузнец, и старый Лембке, и Мориц Блатт, и почти все прочие мужчины погибли, пытаясь защитить своих жен, а женщины погибли так, как всегда гибнут женщины на войне.
И Марта погибла. Она успела увидеть, как потолок над ней превратился в алую огненную зыбь; успела почувствовать запах дыма до того, как он охватил ее так крепко, что она больше ничего уже не различала; успела услышать, как зовет на помощь сестра, пока будущее, которое только что еще было у Марты, растворялось в пустоте: мужчина, за которого она не выйдет, дети, которых она не вырастит, внуки, которым она никогда не расскажет, как с ней весенним утром заговорил знаменитый шутник, и дети этих внуков, и все люди, которым теперь не суждено было родиться. «Вот как это быстро», — подумала она, будто разгадала великую тайну. А еще она успела подумать, слыша треск стропил, что Тилль Уленшпигель теперь, верно, единственный, кто помнит наши лица и знает, что мы жили на свете.
Выжил только параличный Ханс Земмлер, потому что дом его не загорелся, а его самого, недвижного, не заметили, да еще Эльза Циглер и Пауль Грюнангер, которые той ночью улизнули в лес. Вернувшись в рассветных сумерках, растрепанные, в мятой одежде, и увидев лишь дымящиеся развалины, они было подумали, что Господь послал им кошмарное видение в наказание за их грех. А потом они отправились вместе на запад и, хоть и недолго, были счастливы.
Нас же, остальных живших здесь когда-то, слышно в кронах деревьев. Нас слышно в шорохе травы и в стрекоте кузнечиков, нас слышно, если прислонить голову к старому вязу, к отверстию от сучка, а еще детям мерещатся порой наши лица в воде ручья. Церкви нашей больше нет, но галька, белая и круглая, отшлифованная водой, все та же, и все те же стоят деревья. Мы все помним, хоть никто и не помнит нас; мы пока не привыкли не быть. Смерть нам еще в новинку, и дела живущих нам небезразличны. Ведь все это было не так давно.
Повелитель воздуха
Веревку он натянул между липой и старой елью, на уровне колен. Для этого пришлось сделать надрезы; ель поддавалась легко, а липу нож брать не хотел, соскальзывал, но в конце концов получилось. Он проверяет узлы, не спеша снимает деревянные башмаки, встает на веревку, падает.
Вот он снова встает, разводит руки в стороны и делает шаг. Даже разведя руки, он не может удержаться, падает. Опять встает на веревку, пытается шагнуть, падает.
Пытается еще раз, падает.
По веревке нельзя ходить. Это очевидно. Человеческие ноги не созданы для этого. Зачем и пытаться?
Но он пытается. Всякий раз начинает у липы, всякий раз тут же падает. Проходит час за часом. После полудня ему удается сделать шаг — только один, и больше уже допоздна ни разу не выходит. Но было мгновение, когда веревка держала его, когда он стоял на ней, как на земле.
На следующий день льет дождь. Он сидит дома и помогает матери. «Да натяни же ты полотно, ровно держи, не считай ворон, Христа ради!» И дождь стучит по крыше, как сотни пальцев.
На следующий день все еще дождь. На улице холод, веревка мокрая, скользкая, ни шагу не сделать.
На следующий день тоже дождь. Он встает на веревку и падает, встает и падает снова и снова. Лежит на земле, руки раскинуты, мокрые волосы расплываются темным пятном.
На следующий день воскресенье, служба длится все утро, до веревки он добирается только после обеда. Вечером получается сделать три шага, а не будь веревка мокрая, могли бы выйти и четыре.
Постепенно он понимает, как это делается. Колени сами собой сгибаются, плечи поворачиваются. Надо не противиться колебаниям веревки, следовать им коленями и бедрами, на шаг обогнать падение. Тяжесть ловит тебя, но не успевает поймать. Убежать от падения — вот в чем секрет.
На следующий день теплеет. Кричат галки, жужжат жуки и пчелы, под лучами солнца тают облака. Дыхание паром поднимается в воздух. Светлое утро далеко разносит звуки; из дома доносится голос: отец распекает батрака. Мальчик напевает песенку про косаря — смерть-косарь бредет дорогой, власть ему дана от Бога, — мелодия подходящая, под нее хорошо идется по веревке, но, похоже, слишком он громко распелся: перед ним появляется мать и спрашивает, с чего это он бездельничает.
— Сейчас приду.
— Воду надо принести, — говорит Агнета, — печь почистить.
Он разводит руки в стороны, встает на веревку, старается не смотреть на ее выпуклый живот. Неужто там внутри действительно ребенок, неужто он там дрыгает руками и ногами, слушает их разговор? От этой мысли ему не по себе. Если Господь захотел создать нового человека, зачем он это делает внутри другого человека? Что-то есть отвратительное в том, что все живые существа возникают во тьме, сокрытые от глаз: личинки в тесте, мухи в навозе, черви в земле. И только очень редко дети вырастают из корня мандрагоры, это ему отец рассказал, и еще реже появляются из тухлых яиц.
— Зеппа прислать, что ли? — спрашивает мать. — Ты хочешь, чтобы я Зеппа за тобой послала?
Он падает с веревки, закрывает глаза, разводит руки в стороны, снова встает на веревку. Когда он открывает глаза, матери уже не видно.
Он надеется, что она грозилась не всерьез, но вскоре перед ним действительно появляется Зепп. Минуту-другую он смотрит на мальчика, потом подходит к веревке и спихивает его, не слегка, а сильным толчком, так что тот падает навзничь. Со злости мальчик выкрикивает, что Зепп — вонючая бычья задница и сношается с собственной сестрой.
Это он зря. Во-первых, Зепп, как все батраки, явился неизвестно откуда и уйдет неизвестно куда, кто знает, есть ли у него вообще сестра, а во-вторых, тот только этого и ждал. Мальчик не успевает подняться — Зепп с размаху усаживается ему на затылок.