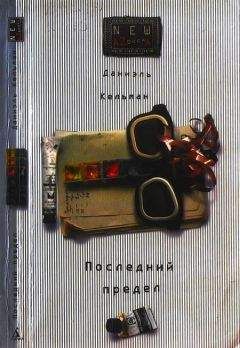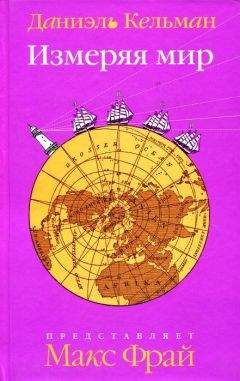Тилль - Кельман Даниэль
Но и это было еще не все. Коровам и дальше пришлось терпеть: после печальной истории началось веселье. Старуха ударила в барабан, а Тилль Уленшпигель заиграл на флейте и пустился в пляс с молодой, которая теперь вовсе не выглядела такой уж красавицей. Они скакали направо и налево, и взад и вперед, и вскидывали вверх руки, и движения их совпадали так, будто были они не два человека, а отражения друг друга. Сами мы неплохо плясали, любили праздники, но никто из нас не умел плясать, как они. При взгляде на них нам казалось, что человеческое тело ничего не весит, что жизнь не тяжела и не печальна. Все мы не могли удержаться на месте, все мы принялись раскачиваться, подпрыгивать, скакать и кружиться.
Но вдруг танец окончился. Тяжело дыша, мы подняли глаза и не увидели ни молодой, ни старухи; на телеге стоял один лишь Тилль. Он запел насмешливую балладу о курфюрсте Пфальцском — бедном глупом Зимнем короле, который думал, что сумеет одолеть императора и принять от протестантов пражскую корону, да только растаяло его королевство еще раньше первого снега. Потом Тилль спел и об императоре, маленьком человечке, что неустанно молился в своем венском Хофбурге, дрожа от холода и от страха перед шведом. И о Льве Севера Тилль тоже спел, о шведском короле, сильном, как медведь, да только не помогла ему сила против пули при Лютцене, подстрелили его, как простого наемника; вот и погас твой взгляд, пел Уленшпигель, вот и отлетела твоя королевская душонка, окоченел лев! Он расхохотался, и мы расхохотались вслед, потому что очень уж заразительно у него получалось, да к тому же весело было думать, что великие умирают, а мы живы; и про испанского короля с большой губой Тилль тоже спел, про того, что думал, будто владеет всем миром, а сам был беднее церковной мыши.
Мы так смеялись, что не сразу заметили, как музыка изменилась, как из нее исчезла насмешка. Тилль затянул теперь балладу о войне, о резвой скачке, о звоне мечей, о солдатской дружбе, о ликующем свисте пуль и о том, как на краю гибели познается человек. Он пел о жизни наемника и о красоте смерти, о восторженном галопе навстречу врагу, и наши сердца забились быстрее. Мужчины улыбались, женщины качали головами, отцы поднимали детей на плечи, матери гордо смотрели на маленьких сыновей.
Только старая Луиза шипела и дергала головой, и ворчала так громко, что стоявшие рядом принялись говорить, чтобы она уходила домой. Но она не утихала, наоборот, крикнула, неужто мы, мол, не понимаем, что он творит, он ведь призывает ее! Он ее накличет!
Тогда мы все зашипели на старую Луизу и стали отмахиваться и угрожать ей, и она убралась подобру-поздорову, а тут Тилль уже и снова заиграл на флейте, а молодая женщина встала рядом с ним и смотрелась теперь величественно, будто знатная. Она запела чисто и звонко, запела о любви, что сильнее смерти, о родительской любви и о любви божьей, и о любви мужчины и женщины. Тут снова изменилось что-то в музыке, старуха быстрее забила в барабан, флейта зазвучала тоньше, пронзительнее, и вот песня была уже про плотскую любовь, про тепло тела, про кувыркание в траве и запах наготы и чей-то здоровенный зад. Мужчины засмеялись первыми, потом засмеялись и женщины, а громче всех смеялись дети. И Марта тоже смеялась. Она протиснулась вперед, песню она понимала хорошо, она часто слышала отца и мать в постели, и батраков на сеновале, и свою сестру с сыном столяра в прошлом году — та убежала ночью из дома, да только Марта прокралась за ней и все видела.
На лице Уленшпигеля заиграла широкая похотливая ухмылка. Какая-то сила упруго натянулась между ним и женщиной, которая уже не пела; ее тело так влекло к нему, а его к ней, что невыносимо было смотреть, как они все не дотронутся друг до друга. Но тут звуки его флейты снова переменились, будто сами собой, и вот уже и думать нельзя было о плотском: звучала месса, Агнец Божий. Женщина молитвенно сложила руки, qui tollis peccata mundi, Тилль отпрянул, и оба, казалось, сами ужаснулись дикости, которая только что чуть не овладела ими, и мы ужаснулись и принялись креститься, вспомнив, что Господь все видит и редко бывает увиденным доволен. Они упали на колени, упали на колени и мы. Он отнял флейту от губ, встал, раскинул руки и попросил денег и еды. Сейчас перерыв, сказал он. А после перерыва, если мы хорошо заплатим, будет самое лучшее.
Мы стали доставать деньги, как оглушенные всем увиденным. Старая и молодая обошли нас с кружками. Мы давали столько, что монеты так и звенели, так и подпрыгивали. Все давали: Карл Шенкнехт, и Мальте Шопф, и его шепелявая сестра, и семья мельника, обыкновенно такая скупая, а беззубый Хайнрих Маттер и Maттиас Вользеген дали больше всех, хоть они и были ремесленники и мнили себя лучше прочих.
Марта медленно обошла телегу.
За ней, прислонившись спиной к колесу, сидел Тилль Уленшпигель и пил из большой кружки. Рядом стоял осел.
— Иди сюда, — сказал Тилль.
С замирающим сердцем она сделала шаг вперед.
Он протянул ей кружку.
— Пей.
Она взяла, отпила. Пиво оказалось горьким, тяжелым на вкус.
— Что за народ здесь? Хороший? Добрый?
Она кивнула.
— Живут в мире, друг друга понимают, друг другу помогают, друг о друге пекутся — такой тут, значит, народ?
Она сделала еще глоток.
— Да.
— Ну что ж, — сказал он.
— Это мы поглядим, — сказал осел.
С перепугу Марта выронила кружку.
— Такому пиву пропадать, — сказал осел. — Безмозглая девчонка.
— Это называется говорить животом, — сказал Тилль Уленшпигель, — и ты так научишься, если захочешь.
— И ты так научишься, — сказал осел.
Марта подняла кружку и отошла на шаг. Пивная лужа еще немного выросла, а потом стала снова уменьшаться, сухая земля впитывала влагу.
— Я не шучу, — сказал ом. — Поедем с нами. Меня ты теперь знаешь. Я Тилль. Сестру мою зовул Неле. Только она мне не сестра. Как старуху зовут, не знаю. Осла зовут Осел.
Марта уставилась на него.
— Мы тебя всему научим, — сказал осел. — Я с Неле, да со старухой, да с Тиллем. Выберешься отсюда. Мир велик. Поглядишь на него. А меня не просто Осел зовут, у меня имя есть. Ориген.
— А почему я?
— Потому что ты не как они, — сказал Тилль Уленшпигель. — Ты как мы.
Марта протянула ему кружку, но он не шевельнулся в ответ, пришлось поставить ее на землю. Мартино сердце стучало. Она думала о родителях и о сестре, и о родном доме, и о холмах за лесом, и о ветре в деревьях, который наверняка только здесь шумит именно так, а не по-другому. Думала о том, какой айнтопф готовит мать.
Знаменитый паяц смотрел на нее своими искрящимися глазами.
— Разве не помнишь, что говорят: «Куда ни подашься, все лучше смерти будет!»
Марта покачала головой.
— Ладно, — сказал он.
Она ждала, но больше он ничего не говорил, и только через пару мгновений она поняла, что его интерес к ней уже угас.
Тогда она снова обошла телегу и вернулась к тем, кого знала, к нам. Только мы ей теперь и оставались, другой жизни больше не было. Она села на землю. Внутри себя она ощущала пустоту. Но когда мы посмотрели вверх, посмотрела вверх и она; все мы заметили что-то в небе.
Черная линия рассекала синеву. Мы смотрели вверх и моргали. Веревка — вот что это было.
Одним концом она была привязана к оконному переплету на церковной башне, другим к флагштоку, торчащему около окна из стены ратуши, где работал городской фогт, что, впрочем, случалось редко, был он у нас ленив. В проеме окна стояла та женщина, и мы догадались, это она только что привязала веревку, но как же она ее натянула? Высунуться в одно окно или в другое, тут или там, проще простого; привязать и отпустить веревку — тоже дело нехитрое, но вот как поднять ее к другому окну и прикрепить второй конец?
Мы разинули рты. Некоторое время нам казалось, что натянутая веревка — уже и есть весь фокус, что больше ничего и не нужно. На веревку опустился, воробей, чуть подпрыгнул, расправил крылышки, передумал, остался.