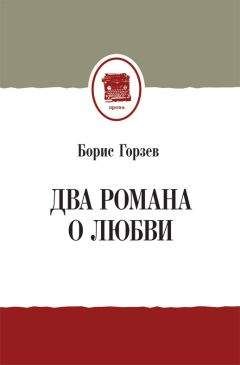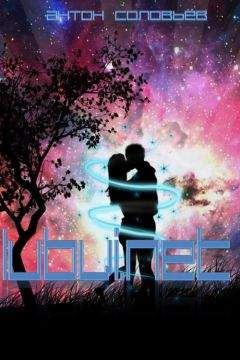Борис Карсонов - Узник гатчинского сфинкса
Вечерами какие-то люди приходят к нему. Больше из офицеров. О чем-то говорят, а о чем — как знать, когда подле двери постоянно дежурит сенатский курьер Александр Шульгин, мужик лет тридцати. Говорили, что он прибыл в Митаву вместе с Щекотихиным, но живет почему-то на постоялом дворе. Округлое калмыцкое лицо с приплюснутым носом и выдающимися скулами, черные глаза Батыя, узкий лоб, на который падали жесткие пряди черных, как конский хвост, волос, — вот вам и Шульгин. Его широкая грудь была под защитой крупной белой бляхи сенатских курьеров, — гордости простолюдинов. Он носил ее, как фельдмаршальскую звезду. Желтая сумка для пакетов из мягкой телячьей кожи на поясе с одной стороны, кривая сабля — с другой.
— Аспида! — выглянув из-под кровати и увидев в дверях своего нумера сенатского курьера, хрипло прошептал Щекотихин.
— Позвольте-с, вашскородие!.. — Батыевские глаза сплющились, и весь он посуровел и будто окостенел. — Позвольте-с, помогу…
Шульгин просеменил к деревянному лежбищу и опустился на истертый ковер подле Щекотихина, который уже выполз из-под кровати. Он был лохмат, рыжий, с кошачьим взглядом, с покусанными тонкими губами.
— Аспида! — почти ласково прошептал ему Щекотихин и при этом тыкал в плоский нос курьера пустой бутылкой.
— И когда успел? Ну скажи, братец, ась? И такое непочтение начальству! Да тебя живьем, живьем, вот так! — Он изобразил в сильных и широких костлявых пальцах пе-рекрут веревки. — Я доберусь до тебя, дружок. Ась? Я тебя в Сибири оставлю! Это же губернатора дары, сукин ты сын! Ма-а-а-лча-а-ть!
Щекотихин встал. Не первой свежести белое исподнее белье висело на нем, как на иссохшем старце-схимнике из Саровской пустыни. С тоскою смертною посмотрел он на красный ярлык «Кло де Вужо», с прищуром прицелился к горлышку, потом бережно перевернул бутылку, поймав на язык несколько оставшихся капель.
Шульгин, этот непрощенный грешник, лазутчик Батыя, молча страдал у порога, видя похмельное терзание надворного советника. И вот христианская душа его не вынесла столь сурового испытания. Он отстегнул ремешки курьерской сумки и вытянул из глубин ее плоский шкалик.
— Позвольте-с, вашскородие! — обреченно сказал курьер, не выпуская, однако, заветную склянку из рук.
Щекотихин какое-то время гипнотически созерцал сосуд сей, потом кадык его дернулся раз, другой, а дрожавшие от нетерпения сухие пальцы заскребли воздух.
— Позвольте-с стаканчик, вашскородие! — желая предотвратить катастрофу, нашелся курьер.
Но поздно. Надворный советник выхватил у него посудину, тут же изрядно хлебнул из нее, вмиг повеселел, кивнул на диван:
— Садись, позавтракаем.
В дверь осторожно постучали.
— Житья нет! — закричал Щекотихин. — С утра ломятся… Скажи, не принимаю-с!
Шульгин вышел, но тотчас же возвратился.
— Вам пакет от губернатора, — сказал он, подавая тонкий конверт с тяжелыми печатями.
— Запри дверь! — Щекотихин сломал печати, разорвал плотную бумагу.
Губернатор конфиденциально сообщал, что сочинитель и президент Август фон Коцебу 10 апреля 1800 года оставил Веймар, у русского посланника в Берлине барона Крюднера получил паспорт на въезд в Россию и что начальнику таможни пограничного города Поланген господину Селлину дано указание: как только означенный Коцебу появится на границе, то непременно его заарестовать, бумаги опечатать и под охраной казаков незамедлительно доставить в Митаву.
Щекотихин прищелкнул языком и потряс казенной бумагой с грифом: «Pro secreto».
— Дождались голубчика! Собирайся, Шульгин, к путешествию в Тобольск… Да-с, а скажи-ка мне, братец, сколько верст от Полангена до Митавы?
— Да тут, значит, так, считают тридцать шесть миль, вашскородие.
— Тридцать шесть? Ну-с и преотлично, в самый раз нам теперь бы и спрыснуть сие известие, не грешно, а?
Шульгин нетерпеливо переступил, но Щекотихин этот немой жест, видно, истолковал как-то по-своему, а скорее даже ему хотелось истолковать его как-нибудь иначе, чтоб найти повод для оправдания.
— Посуди сам, дурья башка, — набросился он на курьера, — этакий путь с секретным преступником!.. А дорогой мне чтобы ни-ни! Запорю! А вот пока, ежели…
— Да что ж, можно, конечно, коль такое дело… — охотно согласился курьер.
На старые дрожжи немного надобно. Щекотихин захмелел, подобрел, хлопал Шульгина по плечу, говаривал:
— Ты, братец, глуп, как татарин! Уважение в тебе ко мне нету. Не кстись, клятвопреступник, нет в тебе уважения! Да я, да ежели бы не Гатингс… Ха, ха! То-то вот и есть, не знаешь Гатингса? — Он придвинулся к курьеру, жарко выдохнул ему в ухо: — Придворный интриган-с! Только чур! Молчок! — Щекотихин приложил палец к губам, но, видно, не привык он вести монолог на низком шепоте, неожиданно прорвался, закричал:
— Интриган-с! Немчура задавила!.. Да кабы не Гатингс, я бы в статских советниках ходил! Ты не гляди на меня так, я еще себя покажу! У меня… — он захрустел пальцами, откинулся на спинку стула. — Они у меня вот тут! — Огромный кулак с грязными ногтями неверно помаячил перед туманным взором курьера и упал на стол.
— Ко мне сам граф Кутайсов благоволит, да-с! Вызвал меня, взял эдак вот под руку и говорит, что его императорское величество повелеть соизволил вам наисекретнейшее поручение! Да-с! Ты вот мне ответствуй, знает ли тебя император? Ух ты, ну и рожа у тебя, братец! Благородства в тебе нет. Дикость ты и низменность. Вас таких в Сенате — больше сотни, на побегушках-то! Эвон-с! А я, чертово ты копыто, я секретную себе инструкцию сам составляю. Потому как я — един! Граф, понимаешь, взял меня вот так под руку, по-благородному взял, наклонился вот так и сказал: излови и доставь в Сибирь — повеление государя… опаснейший, ты слышишь, страшный государственный преступник. А он едет, голубчик, и знать не знает… Ну, а мы его тут цап-царап и… тю-тю!
В Митаву Коцебу прибыл с женою и тремя детьми. Его ждали. Тотчас же он был доставлен к губернатору.
— Позвольте, господин Дризен, как все это прикажете понимать?
Губернатор Митавы, высокий и благородной наружности старик, не утративший еще юношеской стройности, являл собой образец рыцарской учтивости и долга.
— Дорогой Август, что я могу сказать? Вы должны понимать, что я всего лишь звено, не более…
— Но должна же быть причина? Я добровольно и честно служил России шестнадцать лет. Уже более трех лет, с разрешения императора, находился на службе у австрийского правительства. Оставив Вену, я удалился в герцогство Веймарское и последний год провел в кругу семьи с престарелой и больною матушкой; стран, находящихся войною с Россиею и Австрией, я не посещал.
— Вы знакомы с указом? — мягко спросил губернатор.
— Я оставил Ревель с разрешения императора и до издания указа, по которому лицо, покидавшее Россию, обязывалось не въезжать более в ее пределы. К тому же, ваше превосходительство, моя жена — уроженка России, а два наших старших сына — Вильгельм и Оттон — воспитываются в Кадетском корпусе в Санкт-Петербурге…
Однако я понимаю, что сие мне не дает право нарушить указ, а посему я просил разрешение на въезд у самого императора. Цель — увидеть своих детей и осмотреть мое имение Фриденталь — это недалеко от Нарвы. Я просил четыре месяца пробыть в пределах его империи.
— И что же? — уже с нескрываемым интересом спросил Дризен.
Как ни оглушен был Коцебу свалившимся на него неожиданным арестом, он заметил, что добрый губернатор Митавы едва ли знает о причине его задержания больше, нежели он сам.
— Вот извольте прочитать, — сказал Коцебу, подавая ему письмо русского посланника.
«…С великим, милостивый государь, удовольствием спешу сообщить вам о благосклонном разрешении государя императора на выдачу вам паспорта. Я получил приказание доставить вам его и вместе с тем в возможно скорейшем времени донести о том, по какому направлению предполагаете вы отправиться в Россию (чтобы устранить все препятствия, могущие вам, без этой меры предосторожности, встретиться)»…
— «По какому направлению», — с усмешкой повторил губернатор. — Ловко же, ловко!
— Могу ли я спросить вас?
— Да, я к вашим услугам.
— Что предстоит мне теперь?
— Видите ли, Август, — с раздумьем проговорил Дризен, — за вами из Петербурга прибыл надворный советник, господин Щекотихин с курьером. Инструкции, данные ему, мне неведомы.
— Позволят ли следовать со мною моей семье? А если нет, то хотя бы Христине — жене моей — позволили проехать к себе в деревню, навестить своих родителей?
— К великому сожалению, сделать это невозможно, потому как насчет этого нет никаких указаний.
В кабинете губернатора наступило тягостное молчание. Коцебу, опустив голову, ссутулившись, ушел руками в колени.