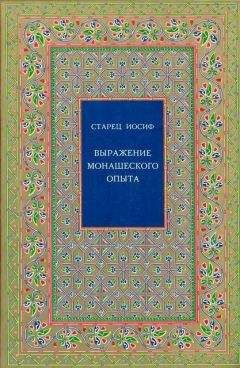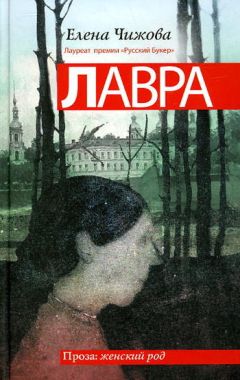Игорь Лощилов - Несокрушимые
— Хведька, где ж тебя лихо носить? — слышались голоса. — Тикай виттеля хучь бэз штанцив, мы глядеть нэ будэмо.
Дёрнули за ворота коровника, и, быть может, прошли бы дальше, да Марфа вдруг громко всхлипнула, не удержав нового страха.
— Эге, так тама кто-сь ховается! Ну-ка выходь!
Задубасили в ворота и, отбив кулаки, решили:
— Нэхай сидять, щас выкурим.
Скоро потянуло дымком, заволновалась скотина. Марфа заметалась было между коровами, пытаясь их успокоить, но скоро убедившись в тщетности затеи, застыла, прислонившись к яслям и безвольно опустив руки. Оська оглядывал коровник в надежде отыскать какой-нибудь выход — всё было глухо. Верх уже затянуло сизым дымом, он опускался ниже и ниже, начал стеснять дыхание, выжимать слёзы. Отбросив ненужный топор, Оська приблизился к девушке, бережно уложил её на пол, где ещё можно было дышать, и сам прилёг рядом. Принять смерть рядом с любимой — в этом было своё утешение. Он нежно гладил девичьи плечи, бормотал невесть откуда взявшиеся ласковые слова и чувствовал, что где-то в глубине души рождается своя песня, заглушающая гудение пламени, треск дерева и рёв обезумевшей скотины. В этих звуках совершенно утонули крики насильников, они как бы перестали существовать. Потому-то не сразу удалось услышать знакомые голоса.
— Да ведь это никак Данила! — очнулась Марфа. Оська приглушил свою музыку, прислушался — и впрямь, кажется, братан.
Он мигом подхватился, откинул засов. В раскрытые ворота хлынул свежий воздух, огонь загудел с удвоенной силой. На Оське затрещали волосы, начала тлеть рубаха, но страшный жар не испугал его. Бросился назад в бушующее пламя, поднял с пола затихшую девушку и понёс к воротам. Всего лишь два шага не хватило до порога — подкосились ноги, и сам потерял память. Хорошо, что Данила сумел подхватить Марфу, ну а Оську уже другие вынесли из огня.
Помощь брата пришла неслучайно. Лавра давно ждала неприятеля, хотя в тайных помыслах и неустанных молитвах надеялась, что Господь поможет отвратить обитель от насилия. Надежды исчезли после поражения Ивана Шуйского, и всё же извечное: «Авось пронесёт», оказалось сильнее трезвого расчёта. Начальствовал в лавре князь Григорий Роща-Долгорукий, в помощниках у него состоял Алексей Голохвастов. Князь был толковым воеводой, одна беда: советчиков не любил. Голохвастов же оказался из тех непосед, что вечно лезут со своими придумками. У них с самого начала и пошли сцепки, иногда во вред делу. Голохвастов, узнав о поражении Шуйского и движении неприятеля к монастырю, настаивал на сожжении близлежащих слобод. Долгорукий медлил, ибо понимал, что от укрытых за стенами лавры погорельцев пользы защитникам не будет. И знал ведь, хитрец, как на своём поставить. Я, сказал, сам не против, но давайте для верности жителей поспрошаем. Послали за мужиками, те, конечно, в отказ, да и кто по своей воле захочет собину загодя пожечь? Так время и упустили. Теперь оба воеводы стояли на звоннице Духовской церкви и, прикрывшись от бившего прямо в глаза солнца, смотрели на тёмную струйку вражеского войска, текущего по Дмитровской дороге. Долгорукий понимал свою оплошность, но объявлять о том не спешил. Голохвастову хватило ума удержаться от укора, его мысли были сейчас заняты другим.
— Ударить бы по ним сейчас, покуда купно не собрались.
Долгорукий недовольно крякнул, а Голохвастов, не обращая внимания, толкнул его под руку:
— Гляди, Григорий Борисыч, ворье на Служень овраг нацелилось, верно, по нему к слободе хотят подобраться.
Это были как раз посланные Лисовским казаки.
— Возьми сотню конников и встреть их как надо, — недолго думая, приказал князь.
Голохвастов кубарем скатился со звонницы. Тяжёлый, мало поворотливый с виду, он в нужные минуты мог быть проворен, как белка, и вскоре даниловская сотня вынеслась через Святые ворота из крепости. Тем временем Долгорукий привёл свои войска в боевую готовность и выслал ещё две сотни на края слободы, чтобы воспрепятствовать подходу новых шаек, буде они появятся. Дозорным же на звоннице приказал быть особенно внимательными.
«Лисовчики», привыкшие безнаказанно грабить мирные сёла, не ожидали отпора и стали лёгкой добычей внезапно налетевшей сотни. Жители, воочию убедившись в том, что нужно ожидать от пришельцев, стали наскоро собирать пожитки и выгонять скотину. Над домами появились первые сизые дымки. В тот вечер сумерки надолго отступили от слободы, ибо скоро вся она запылала одним общим костром.
В это время передовой отряд пана Тышкевича направился в отведённую для постоя слободу. Конники, не таясь, двинулись через Клементьевское поле и были тотчас же замечены дозорными. С южной стороны крепости ударили пушки. Отвыкшие от дела пушкари стреляли худо, только и показали, что не дремлют. Зато предусмотрительно высланная Долгоруким сотня, затаившаяся в прибрежных зарослях речки Коншуры, стремительно выскочила из засады и смяла новых посланцев. То же случилось и на северной стороне. Отряд, возглавляемый Иваном Ходыревым, незаметно прошёл по Мишутинскому оврагу к Гончарной слободе. Жителей уговаривать не пришлось, скоро окрестности лавры озарил ещё один костёр. Устремившихся туда казаков сотня Ходырева частью изрубила, частью рассеяла. Наступила темнота, и пришельцы, всюду встретившиеся с крепкой силой, более не осмелились рыскать по незнакомой местности. Им оставалось только наблюдать, как на ней появляются всё новые костры.
К Святым воротам монастыря шёл непрерывный людской поток. Плачущие бабы, в одночасье потерявшие почти всё нажитое, утирались концами платков, размазывая по лицу дорожную пыль. Хмурые мужики тащили узлы с наскоро собранным домашним скарбом и злыми голосами подгоняли скотину, а та, лишённая привычного хлева, тревожно мычала. На мелкую живность никто уже внимания не обращал, она с криками металась под ногами и белыми брызгами разлеталась в стороны от идущих.
У входа в крепость беженцев встречал монастырский слуга Фока, сам из себя плюгавенький с редкими седыми волосёнками, прилипшими к разгорячённому от усердия лбу. Подобно всем ничтожным людям, получившим временную власть, он тщился показать свою значительность и всячески понукал обездоленных людей. Особых правил в его придирках не наблюдалось: одних с телеги сгонит, у других овечек отберёт, третьим прикажет половину добра оставить на входе. В Служней слободе жили люди послушные, особо не спорили, да и не до того: радовались, что сами уцелели. Но было так лишь до подхода Гузки. Она вместе с упрошенным помочь Оськой тянула двухколёсную тележку, на которой лежал заваленный узлами пока ещё дышавший Еремей. Оське не с руки тянуть чужое добро, со своим бы управиться, но Гузка баба хитрая: помоги, сказала, зятёк, теперь это всё одно обчее. Парень после таких слов бросил своё барахло и с радостью впрягся в ставший почти что семейным воз. К тележке привязали скотину и попёрли, только пыль заклубилась. Гузка, хоть и небольшого росточка, но жилистая, коли во что вцепится, не отпустит. Говорили, что если подарить ей уродную яблоню, и ту в одиночку из земли выцарапает. Фоке сталкиваться с Гузкой ещё не приходилось, видит баба убогая, можно покуражиться, встал на пути и строго сказал:
— Ну-ка, стой! С телегой пущать не велено, местов нет. Отгребай в сторону.
Гузка рада передышке, утёрлась краем платка и потянулась к кочерге.
— А это видел? — спросила она.
Её пресекаемый тяжёлым дыханием голос звучал не слишком грозно, и Фока крикнул:
— Ах ты, старая ведьма! Кому сказано — в сторону! Изыди, не то псов спущу.
В ответ Гузка, не раздумывая, огрела его своей железякой и завопила так, что Фокин крик показался жалким писком.
— Я те изыду, червь навозный! Лежишь по дороге, аки кал смердящий, и хочешь, чтобы все тебя объезжали? Так я через тебя перееду, хучь отмывать колёсы придётся. А перееду потому, что у меня там ёрой ранетый, и ты его, опарыш, сам теперь повезёшь.
У Фоки аж рот от изумления открылся. Гузка, не давая опомнится, снова намахнулась:
— Берёшься ли, слизь замороженная, али я твою кудель в иной цвет покрашу?
Подхватился монастырский служка и ну бежать. Гузка за ним, размахивая кочергой. Мужики, хоть и заминка вышла, враз отсуровели, кое-где загоготали, и бабы перестали голосить — интересно. Фока бежал, ничего не видя, покуда не наскочил на старца Корнилия. Корнилий к Гузке: «В чём твоя обида, женщина?» Гузка сразу голос спустила, рассказала, в чём. «Пойдём, я помогу довезти твою поклажу до места и сам осмотрю раненого», — сказал старец и позвал Фоку за собою. А пришедши к воротам, приказал ему так:
— Станешь на сём месте и будешь говорить всем одни слова: «Добро пожаловать в обитель, святой Сергий примет и приветит каждого».
Сам встал рядом с Гузкою и поднял тележную оглоблю.
— Святой Сергий примет и приветит каждого, — старательно произнёс Фока.