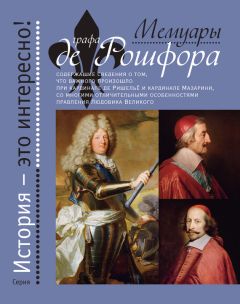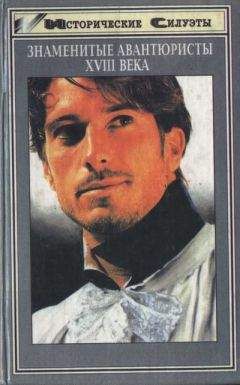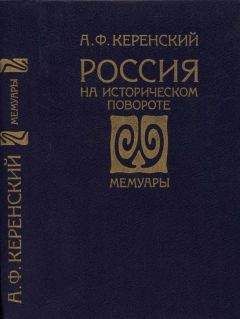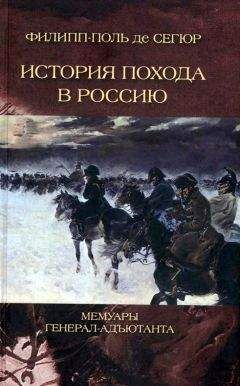Гасьен Куртиль де Сандра - Мемуары M. L. C. D. R.
Я всегда хранил до времени те два экю, что дал мне кюре, и они весьма пригодились мне в дороге. Моей целью было вступить в первую же армейскую роту, которая подвернется, а поскольку в то время солдат еще не мерили аршином, как принято сейчас, я надеялся, что мой небольшой рост не окажется помехой. Из-за цыганского образа жизни я стал очень смуглым, и во всех испанских городах, через которые я проходил, меня принимали за своего; я не был задержан ни в Перпиньяне{20}, ни в Сальсе{21}, хоть мы и вели тогда войну с Испанией{22}. Наконец я достиг Локата{23} — главного города, который мы удерживали, — и вступил в роту господина де Сент-Онэ, тамошнего губернатора.
Я хотел участвовать во всех боевых действиях, которые мы вели против гарнизона Сальса, и, быстро освоив каталанский язык, подумал, что было бы неплохо воспользоваться моим сходством с испанцами, чтобы совершить вылазку, которая позволит мне отличиться. Сказать по правде, я начинал тяготиться званием простого солдата: мне было уже почти пятнадцать, и честолюбие переполняло меня так, что подчас даже не позволяло заснуть. Господин де Сент-Онэ не возражал, но, когда я вернулся, так ничего и не добившись, промолвил:
— Так дело не пойдет, парень. Лучше уж позволить надрать себе уши, чем возвращаться ни с чем. Неприятеля и отсюда можно увидеть, когда захочешь, — не стоит просить разрешения, если боишься подойти близко.
— Я находился достаточно близко, месье, — ответил я. — Но нас было слишком много, а мне ни к чему слава, которую придется делить с другими.
— Сколько же вас было? — осведомился господин де Сент-Онэ.
— Одиннадцать, месье, — сказал я. — А ведь и девяти было бы довольно! Но если вы позволите мне и моему товарищу вернуться туда завтра, у вас не будет повода для упреков.
— А не хочешь ли ты дезертировать? — тотчас спросил он.
— Если бы я хотел так поступить, месье, то не пришел бы спрашивать разрешения, — возразил я. — Уже два раза я добирался до вражеского частокола, и, пожелай я проникнуть в крепость, никто бы этому не помешал.
Моя храбрость пришлась ему по душе, и он спросил, кто я такой. Я ответил, что если преуспею в своем замысле, то скажу, а если меня постигнет неудача, то подожду более благоприятного случая, чтобы представиться. Такой ответ понравился ему еще больше, и, рассудив, что я имею причины говорить таким образом, он с этого времени стал относиться ко мне с приязнью и не замедлил это доказать.
Итак, на следующий день, получив разрешение и подобравшись к Сальсу на расстояние двух мушкетных выстрелов, я велел своему товарищу припасть к земле, а сам подкрался еще ближе. За те два дня, что я был в разведке, я приметил, что один офицер неприятельского гарнизона встречается с девушкой в старом, заброшенном доме. Всякий раз перед свиданием он высылал на разведку солдата; место было отличное, чтобы там спрятаться, и я решил попытать удачи. Придя к дому, где я намеревался укрыться до поры, я сделал вид, что стираю белье, и увидел, как вражеский солдат пришел, осмотрелся и пошел обратно с докладом. Вскоре с одной стороны в дом юркнула девушка, а с другой вошел офицер. Они тешились любовью, когда нагрянул я и, вынув из-за пояса два пистолета и захватив офицера врасплох, как барана, приказал ему молча следовать за мною, или же я продырявлю ему живот. Угроза произвела впечатление, и он не стал испытывать, способен ли я привести ее в действие. Решив, что неплохо прихватить с собой и девушку, хотя бы затем, чтобы она не рассказала, куда девался ее любовник, я приказал им идти по дороге туда, где меня дожидался товарищ. При виде подкрепления пленники совсем отчаялись, потеряв всякую надежду вырваться; я же ликовал безмерно. Так мы шли добрый час, и товарищ мой только и думал, как бы побыстрей унести ноги, однако, убедившись в нашей безопасности, стал поглядывать на девушку и, сочтя, что та недурна собой, вознамерился сделать привал и дать волю похоти. Я спросил, не сошел ли он с ума, но он лишь расхохотался, решив во что бы то ни стало утолить свои грубые позывы. Я сильно разозлился и, поскольку не набрался еще ума, пригрозил убить его.
— Попробуй-ка, — ответил он и тотчас сам навел на меня дуло пистолета.
Я ничуть не испугался: одной рукой держа пленного, другой схватил пистолет и прицелился. Он же, человек вспыльчивый, все-таки выстрелил в меня, промахнулся и, боясь, что я-то не промахнусь, стремительно убежал прочь.
Я не стал догонять его — единственной моей заботой было поскорей возвратиться, ибо у меня не было сомнений, что он дезертирует и предупредит гарнизон Сальса о том, что произошло. Я ускорил шаг, заставив поторопиться и тех, кого вел с собой. Это меня спасло: не успел я дойти до города, как показались три верховых офицера — они погнались было за мной, но, видя, что я уже почти у ворот, сочли благоразумным прекратить преследование.
Мое возвращение в Локат было триумфальным. Многие вышли мне навстречу, чтобы посмотреть, как шестнадцатилетний юноша ведет двух пленников, и до самой квартиры губернатора меня сопровождала толпа величиной с добрую роту.
— Вот, месье, — сказал я господину де Сент-Онэ, — как видите, я подошел совсем близко! А ведь я говорил, что, чем меньше людей идет в разведку, тем всегда лучше: теперь нас было только двое, но даже и спутник мой оказался лишним.
Он спросил, что я хочу этим сказать, и я коротко доложил ему. Горячо похвалив, он отличил меня гораздо более, чем того заслуживал мой поступок: немедленно назначил знаменосцем{24} в Пикардийском полку, которым двор позволял ему распоряжаться, равно как и вакантными должностями в гарнизоне, — притом весьма благосклонно обмолвившись, что позаботится о моей судьбе, и намекнув, что я недолго останусь в этом чине.
Еще большую славу мне принесло то, что плененный мною офицер оказался королевским наместником{25} Сальса, и, после того как господин де Сент-Онэ донес обо всем двору, сам кардинал Ришельё приказал ему в письме тотчас откомандировать меня в Париж, выдав сто пистолей{26} на дорогу. Радость моя была беспредельной: я засвидетельствовал всю свою признательность господину де Сент-Онэ, которого считал благодетелем. Перед моим отъездом он спросил, кто я, — и я со всей искренностью рассказал ему о своей короткой судьбе.
— Я счастлив узнать, что вы дворянин, — промолвил он. — Хотя отвага достойна уважения в каждом, однако ее блеск куда более присущ людям благородного происхождения, нежели всем прочим. Поезжайте к кардиналу, — продолжал он. — Этот человек, если не ошибаюсь, может многое для вас сделать, он любит храбрецов и всячески старается привлечь их к себе на службу.
Я пустился в путь из Локата очень довольный, перед отъездом купив двух лошадей — одну для себя, а другую для нанятого мною слуги. Так как я был еще очень молод, а тщеславие всегда кружит юношам головы, то решил показать, каким стал, в своих краях и, ничуть не беспокоясь о потерянном времени, свернул с главной дороги в Бриаре{27} и к вечеру уже подъехал к дому кюре. Тот и удивился, и очень обрадовался. Рассказав ему обо всем, что со мной приключилось и куда я направляюсь, я поблагодарил его за заботу обо мне, вручил ему десять пистолей и заверил: улыбнись мне удача, я разделю ее с ним. Он же рассказал мне, что теперь под отчим кровом я найду большое семейство, ибо у моего отца уже семеро детей, не считая меня самого, но дела его идут неважно, и Господь послал ему великую печаль — как думается, в наказание за черствость, с какой он обошелся со мною. Тут кюре и поведал мне необычайную историю, которую я сейчас перескажу. Среди нашей родни был один дворянин по имени Куртиль{28}, состоявший в родстве с лучшими семьями провинции, хотя и не происходил из нее; но он был слишком беден, чтобы вести жизнь, достойную своего рода и наружности, а между тем красотой с ним мог сравниться мало кто во Франции. В поисках удачи он часто бывал в Париже, где ее легче заполучить, — и либо водил знакомство с женщинами, ссужавшими его деньгами, либо счастливо пытал судьбу за игорным столом, поэтому всегда великолепно выглядел и вращался в блестящей компании. Влюбившись в одну молодую вдовушку, обладавшую немалым состоянием, он стал искать ее руки, надеясь, в силу своей известности, что отказа не последует. Но дама и слушать его не хотела — то ли он ей не нравился, то ли — что представляется наиболее вероятным — она уже решила посвятить себя Богу, — но так или иначе, она попросила больше не докучать ей. Этот отпор лишь разжег его желание: хотя она просила его не приходить больше к ней в дом, но не проходило и дня, чтобы он с нею не повидался — то в церкви, то у кого-нибудь из ее друзей — и всячески старался появляться там же, где бывала она. Стремясь избавиться от такой назойливости, она удалилась в монастырь, но, когда Куртиль пригрозил, что подожжет его, возвратилась назад, опасаясь, как бы он и в самом деле не сделал этого. Все-таки она упорно хотела отделаться от него, и он решил ее похитить, но дама, опередив его, тайком уехала за город, и никто, кроме лучшей подруги, не знал, куда именно. Родители ее, не получая известий о ней два или три дня и не дождавшись ее возвращения, не на шутку встревожились, вообразив, что наш родственник и впрямь увез ее, тем более что он сам везде твердил об этом. Кроме того, они подали жалобу в суд и, когда были выслушаны свидетели, открыли против него процесс. Другой бы с легкостью отыскал средство унять их, учитывая еще и то, что он ни в чем не был виноват, а значит, и бояться было нечего. Но то ли его занимали другие дела, то ли он не верил, что будет осужден за то, чего не совершал, — как бы то ни было, но Куртиль отправился к моему отцу, а потом и к другим родственникам, в полной уверенности, что его местонахождение известно. Незадолго до его приезда моему отцу вернули долг — двадцать тысяч экю, — и тут же некие мошенники, прознав об этом, позаимствовали или украли плащи полицейских и, под предлогом поиска Куртиля, заявились в наш дом и приставили отцу пистолет к горлу, требуя указать им, где деньги. Умирать отцу совсем не хотелось, и пришлось смириться с неизбежным. Он сам показал место, и из башни, где его заперли вместе со всеми домочадцами, проводил взглядом воров, навьючивших добычу на лошадей и ускакавших в лес, чтобы спастись надежным способом.