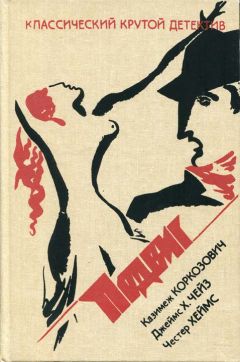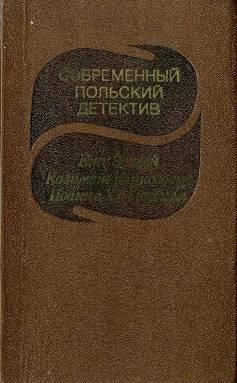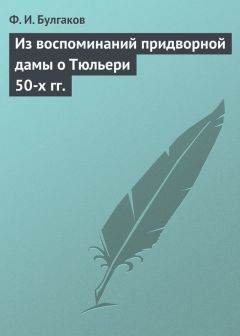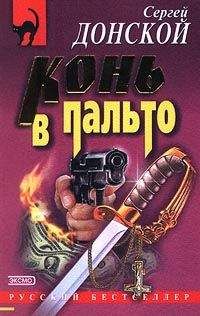Владимир Архипенко - Ищите связь...
Дежурный вахмистр, сидевший у конторки в вестибюле, вскочил при его появлении, но Шабельский, махнув рукой, сказал отеческим топом:
— Сиди, ради бога, голубчик, сиди… Не утруждай себя. У тебя еще вся ночь впереди, а я свое дело закончил и скоро уже почивать буду. Держи ключ от кабинета — и будь здоров.
— Желаю всего наилучшего, господин ротмистр, — отозвался вахмистр, который, хотя ему и разрешили сидеть, стоял вытянувшись в струнку.
Прогулка по вечерним хорошо освещенным и чистым улицам Гельсингфорса доставляла удовольствие — улицы были безлюдны, в окнах редко где горел свет. Эти белобрысые долговязые инородцы (все сотрудники в разговорах между собой называли их чухонцами) ложились спать чрезвычайно рано. Зато, правда, и вставали чуть свет.
Служа в финляндской столице, ротмистр никак не мог привыкнуть к образу жизни местного населения, да, собственно, и не пытался. По отношению к финнам он вел себя точно так же, как все другие представители российской администрации, посланные служить в эту своеобразную страну, упорно именуемую в официальных российских документах великим княжеством финляндским. Чиновники и офицеры выказывали полное пренебрежение к финскому языку, местным традициям и нравам, получая в ответ почти не скрываемое презрение. И не только они сами, но даже их семьи были отделены от местного населения глухой стеной неприязни.
Однако любой чиновник прекрасно знал, что презиравшие их чухонцы с охотой укрывали врагов российского престола. И благо бы только рабочие — те давно спелись со своими русскими собратьями, — а то ведь и порядочные люди в лице коммерсантов и промышленников, охотно прятали от сотрудников охранного отделения всех этих террористов, «бомбистов» и прочих революционеров.
Задумавшись о столь досадных вещах, Шабельский постепенно потерял хорошее настроение. И теперь умытые улицы города уже не казались ему приятными. В их чистоте и прямолинейности чудилось что-то враждебное.
Сворачивая за угол, ротмистр нос к носу столкнулся с долговязым финским полицейским, от неожиданности вздрогнул. А полицейский вместо того, чтобы уступить дорогу офицеру, невозмутимо продолжал двигаться, словно перед ним было пустое место. Шабельский вынужден был торопливо сделать шаг в сторону.
Кровь ударила ему в голову, и ругательства готовы были сорваться с языка, но ротмистр сдержался. Ругаться было бесполезно. Это русский городовой вытягивается и замирает как истукан при виде офицерского мундира. Тому и в морду можно врезать при нужде. А попробуй чухонца-полицейского не то чтобы пальцем тронуть, а хотя бы обругать — хлопот потом не оберешься. Нет, что ни говори, а все-таки прав этот бешеный бессарабский помещик Пуришкевич, который недавно в Государственной думе требовал приструнить зарвавшихся финляндцев, лишить их остатков самоуправления, к черту разогнать сейм и полицию, заставить их уважать законы империи…
Шабельский уже подходил к дому, когда навстречу попался еще один запоздалый прохожий. Они поравнялись возле уличного фонаря, и ротмистр успел разглядеть худощавое лицо с торчащими усами, спокойные усталые глаза, профессионально обратил внимание на то, что пальто и шляпа прохожего изрядно поношены, а из-под пальто видна косоворотка. Не будь ее, можно было бы принять человека за мелкого конторщика, обремененного семьей. Но по косоворотке сразу видно — рабочий. Все это Шабельский отметил в уме машинально. И еще мелькнула мысль, что он где-то видел это лицо. Мелькнула и тут же пропала, уступив место другой: что приготовила сегодня на ужин Ариша — баба, исполнявшая в его семье роль горничной и кухарки одновременно.
Шабельский был уже близко от своего подъезда, и мысль об ужине заслонила все остальные. Почему-то ему показалось, что ждет его тушенная с кореньями и специями баранина, приготовлять которую Ариша умела с отменным мастерством.
Когда он открыл дверь своим ключом, ему вновь представилось лицо прохожего и опять подумалось, что он где-то видел этого человека. Но в прихожую, заслышав щелканье замка, уже вплывала Ксения, привычно заботливая супруга.
— Ах, Стась, ты заставил свою половинушку поволноваться. И ужин совсем простыл. Ариша сделала сегодня твой любимый бигус!
Внутренне поморщившись (он недолюбливал эти «половинушки» и прочую сентиментальщину), Шабельский привычно ткнулся усами в тугую щеку жены и окончательно забыл прохожего.
Человек в поношенном пальто и шляпе тем временем вышел на Хенриксгатан, дождался на остановке трамвая и покатил в сторону парка Тёлё. Маленький аккуратный вагончик был почти пуст.
Ах, если бы Станислав Шабельский не был тогда уставшим и смог бы вспомнить лицо прохожего, то не поедал бы он так спокойно жирный бигус. Встреченный им человек был одним из тех, за кем ротмистру надлежало охотиться денно и нощно. К тому обязывала его профессия жандарма, дававшая ему в жизни достаток, чины и ордена, сулившая солидную пенсию к старости, по требовавшая за все это постоянного бдения, служебного рвения и известного профессионального нюха.
Встретившийся ротмистру прохожий по своему социальному положению был мещанином, то бишь принадлежал к сословию хотя и повыше, чем крестьянское, но тем не менее в глазах официальных властей низкому. А что касается положения имущественного, то тут вообще говорить было не о чем — все его богатство состояло в покрытых мозолями руках.
Именно из таких, как он, состоял костяк российской социал-демократической рабочей партии, которую охранка с полным на то основанием считала единственной из всех существующих в России партий, представлявшей серьезную опасность для самодержавия. Их — непреклонных, неподкупных, самозабвенно верящих в правоту своего дела — охранка боялась куда больше, чем шумливых эсеровских боевиков — «бомбистов».
Подлинное его имя было Эдмунд Сантори. Он был родом из семьи поселившегося в Петербурге финского рабочего и, еще не достигнув совершеннолетия, поступил на Обуховский завод. Там еще юношей получил боевое крещение, участвуя в знаменитой Обуховской обороне, когда забастовавшие рабочие булыжниками отбивались от городовых и казаков. По специальности он был слесарем. Но была у него и вторая профессия, которая не давала никаких материальных благ, но зато совершенно точно сулила неизбежные аресты, тюрьмы, ссылки, а в крайнем случае и виселицу. Это была профессия революционера.
Еще в конце девятнадцатого столетия он связал свою жизнь с социал-демократической рабочей партией, когда ее состав исчислялся только десятками людей, и с тех пор служил своей партии верой и правдой.
На трудном пути подпольщика он успел сменить несколько фамилий, был Бергом, Горским, в последнее время числился по документам Александром Васильевичем Шотманом. Под этим именем он работал в мастерской Свеаборгского порта, начальнику которой и в голову не приходило, что старательный, молчаливый слесарь возглавляет подпольный партийный комитет рабочих Гельсингфорса…
В отличие от Шабельского Шотман обладал превосходной зрительной памятью. Столкнувшись с жандармским офицером под фонарем на Владимирской улице, он мгновенно вспомнил, где и при каких обстоятельствах видел его.
Тогда он жил в Одессе. Вместе с женой снимал комнату в большой квартире доходного дома на Пересыпи. В этой же квартире жили еще несколько семей. Однажды ночью к соседу, Семену Приходько, работавшему на паровой мельнице, перебудив всех жильцов, нагрянули с обыском жандармы. Рабочие мельницы в то время бастовали, Семен входил в стачечный комитет. Возглавлял жандармов грузный полковник, а подручным у него был молодой ротмистр с лихо закрученными усами — тот самый, которого Шотман встретил теперь на улице Гельсингфорса. Обыск был долгим. Уже под утро жандармы увели с собой Приходько. На всю жизнь запомнил Шотман, как молодой ротмистр ткнул согнутым локтем в живот жену Семена, когда она кинулась было, чтобы напоследок обнять мужа…
Пустой вагончик трамвая бойко катил в сторону парка Тёлё. Шотман взглянул сквозь заднее стекло на убегающую вдаль улицу и убедился, что она пуста. Возможность слежки, видимо, исключалась. Впрочем, ее не должно быть. Однако нежданная встреча с жандармом на Владимирской улице невольно заставила насторожиться.
Возле железнодорожных складов, где трамвай затормозил на повороте, Шотман спрыгнул на ходу, сопровождаемый укоризненным взглядом пожилого кондуктора, юркнул в ворота, быстро миновал проходной двор. Теперь перед ним был глухой забор. Он уверенно подошел к нему, нащупал нужную доску, державшуюся лишь на верхнем гвозде, отвел ее в сторону и пролез в образовавшуюся щель. То же самое он проделал на другом конце пустыря, выйдя наружу возле железнодорожного пути. Отошел от лаза метров на полсотни и, прижавшись к доскам там, где темень показалась погуще, постоял несколько минут. Если кто-то шел по его следу, то должен был воспользоваться тем же лазом.