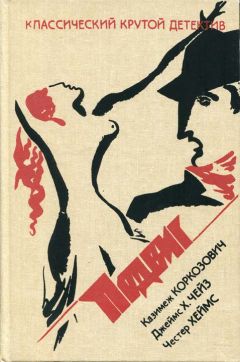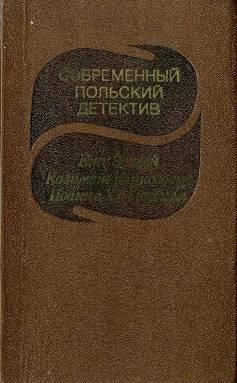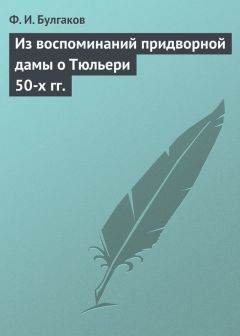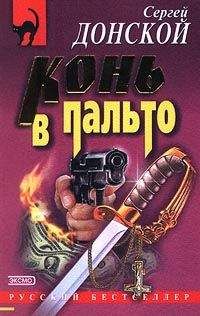Владимир Архипенко - Ищите связь...
К тому времени их братья и сестры обзавелись своими семьями и своим жильем, разъехались по разным углам Питера. И когда в двух комнатушках маленького покосившегося домика осталось всего четверо, приходилось только удивляться — как это прежде здесь могли размещаться девять человек?
Старший брат учил младшего не только тонкостям своей профессии. От него Сергей впервые услышал, что такое классовая борьба, капитализм, эксплуатация и еще многое другое. Терентий как-то по секрету рассказал, что посещает политический нелегальный кружок, но, когда Сергей попросил повести туда и его, наотрез отказал, прибавив при этом:
— Я тебя люблю, и ты это знаешь. Однако прямо тебе скажу: не дорос ты еще до серьезного дела. Характер у тебя скверный — слишком ты горяч и невыдержан. Стыдно даже сказать людям, что ты до сих пор еще в уличные драки встреваешь, как недоросль какой! Вот если сумеешь перемениться и посерьезнее стать, тогда и поговорим насчет кружка. А пока и не проси.
Как ни обидно было Сергею, но вынужден был он проглотить пилюлю, понимая справедливость этих слов. Что и говорить — выдержки у него было до крайности мало, и не случайно приятели звали его Серега-кипяток. Целых две недели после памятного разговора он терпеливо воспитывал свой характер: после работы сразу шел домой, избегая лихих дружков, слонявшихся вечерами возле Петергофского шоссе. Взялся читать одну из книжек Терентия — об английских рабочих союзах под названием тред-юнионы, но она показалась ему безмерно скучной, и он с трудом одолевал ее.
К концу второй недели примерной жизни, возвращаясь домой со смены, он услышал в переулке истошный крик «наших бьют», не раздумывая ринулся в свалку и был изрядно помят в ней. Наутро Терентий, увидя у него заплывший глаз и ссадину на скуле, только вздохнул и безнадежно махнул рукой.
И все же Сергей дождался своего заветного часа. Однажды в воскресенье Терентий велел ему выучить наизусть один адрес и отнести пакет, передать из рук в руки человеку по фамилии Горский. Выполнив поручение, младший Краухов почувствовал себя на седьмом небе от сознания, что брат начал ему по-взрослому доверять. После этого он еще несколько раз приезжал к Горскому, привозя ему бумаги или устные сообщения. Но потом Горский куда-то исчез.
А летом девятьсот восьмого Терентия арестовали. Жандармы пришли за ним ночью, устроили обыск, перевернули все вверх дном, но ничего запретного не нашли. Все это время Терентий сидел на табурете посреди комнаты, а за спиной его, не спуская с арестованного глаз, стоял огромный усатый жандарм. Сергею и родителям велено было сидеть на лавке в углу под иконами и не сходить с места. Старый Краухов угрюмо смотрел из-под мохнатых седых бровей, как перетряхивают их немудреный скарб, мать беззвучно вздрагивала — плакала в платок.
Потом брата увели, Сергей бросился было следом за ним в безумной надежде отбить, помочь убежать, но загородивший дверь усатый жандарм легко отшвырнул его в угол.
Так и остались они втроем в маленьком домике. После того как брата арестовали, судили и сослали куда-то в Зауралье, Сергей поклялся, что разыщет его товарищей по подполью. Но сделать этого не удалось — то ли не умел он искать, то ли ему еще не доверяли, но следов подпольной организации на заводе он так и не нашел. А тут подоспело время самому идти на службу.
Трудно пришлось ему в матросской шкуре, и особенно на первых порах. Он тяжело переживал всякую обиду — свою и чужую, вспыхивал гневом, видя любую несправедливость. А обид в матросской службе трудно было счесть…
Служил Краухов после окончания школы в Кронштадте электриком на линейном корабле «Цесаревич». И не миновать бы ему дисциплинарных рот, а то и суда, если бы товарищи по службе, любившие Сергея за добрый и справедливый нрав, не оберегали его, сдерживая гневные порывы, успокаивая его вечерами в тесном матросском кубрике. Однажды Сергей не выдержал — кинулся на боцмана, обругавшего его грязным словом. Но ударить не успел — схватили за руки товарищи. Конечно, и за это могли бы отдать под суд матроса второй статьи Краухова, да вступился за него штурманский электрик, ценивший в своем подчиненном редкостное профессиональное умение с ходу разбираться в самых сложных электрических схемах, быстро устранять любые неполадки.
Но все же ходил молодой матрос по острию ножа — были в самом его облике, в манере отвечать начальству независимость, вызывавшая раздражение офицеров, привыкших к показному матросскому рвению. И несмотря на благосклонность лейтенанта Артемьева, дважды уже побывал Сергей в карцере.
На корабле Краухов не мог не обратить внимание на то, что матросы словно невзначай сходятся группами в укромных местах, иногда на ходу торопливо о чем-то договариваются, но, если он пытался подойти к ним в это время, они сразу умолкали и расходились. Он понимал, что среди них есть какой-то сговор, но так и оставался непосвященным до той поры, когда во время увольнения на берег не столкнулся нос к носу с тем самым подпольщиком Горским из Петербурга, к которому не раз заходил по поручению старшего брата.
Горский теперь носил фамилию Шотман. Подпольщик, расспросив матроса о его службе, посоветовал ему в удобный час подойти к комендору Афонину, передать ему условные слова и в дальнейшем во всем слушаться его.
Краухов был просто поражен тогда. В жизни не пришло бы ему в голову, что тихий, на редкость дисциплинированный и исполнительный Афонин может оказаться подпольщиком, и не простым даже, а одним из руководителей.
Так он наконец связался с подпольщиками, стал бывать на нелегальных собраниях, а совсем недавно был посвящен в тайну, от которой зависела не только его собственная судьба, но и судьба всей эскадры.
И надо же было в такой момент попасть под перевод в Кронштадт, да еще и не имея возможности предупредить об этом товарищей на берегу!
Когда матрос второй статьи Краухов навел прожектор на город, он не подозревал, что луч на мгновенье зальет светом комнату, в которой сидит человек, имеющий к его, крауховской, жизни самое прямое отношение.
Но надо сказать, что человек этот, одетый в синюю жандармскую форму, был слишком углублен в бумаги и не осознал даже, что его кабинет был на миг высвечен лучом прожектора.
Настенные часы в коридоре пробили четверть одиннадцатого, когда он поставил точку, тяжелым пресс-папье промокнул чернила и с удовольствием взглянул на большой лист бумаги, исписанный убористым, аккуратным почерком. Откинувшись на спинку стула, он еще раз перечитал заключительную фразу:
«Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сейчас на кораблях флота сравнительно спокойное состояние и тенденции к усилению революционного брожения среди нижних чинов не наблюдается».
Завтра он передаст этот рапорт начальнику управления полковнику Утгофу, который, как это было и раньше, отдаст перепечатать писарю, не внеся никаких поправок.
Конечно, обидно, что подпись будет не его, Шабельского, но что поделать — служба. Придет время, когда и он станет поручать подчиненным писание бумаг, а сам будет лишь ставить под ними несколько небрежную, но достаточно четкую подпись. А пока хорошо и то, что начальство довольно им, явно выделяет его среди других сотрудников управления. Не случайно же именно ему доверено писание рапортов полковнику фон Коттену — новому начальнику Петербургского охранного отделения. Предшественникам Коттена хватало и того, что в сведениях с мест давалось состояние дел на текущий момент, но этот хитрый немец — ставленник самого министра двора барона Фредерикса — требовал, чтобы каждый рапорт содержал в себе и элемент некоторого предвидения. Полковник любил повторять, что настоящий жандарм должен уметь заглядывать вперед событий.
Шабельский засунул рапорт в картонную папку и запер ее в новенький, поблескивающий красной эмалью несгораемый шкаф. Этот добротный стальной ящик с хитроумным запором тоже был плодом деятельности фон Коттена. По его приказанию новые сейфы закупили не где-нибудь, а у солидной немецкой фирмы. Правда, злые языки поговаривали о том, что начальник охранного отделения тем самым дал возможность подзаработать родственнику своей жены, служащему той самой фирмы. Однако на эти разговоры ротмистру было наплевать, тем более что сейфы действительно были отменного качества.
Надев новенькую шинель с серебристыми погонами и фуражку, Шабельский погасил в кабинете свет, вышел в безлюдный коридор — все сотрудники давным-давно разошлись по домам, и, миновав добрый десяток дверей, завернул в туалет с единственной целью: глянуть лишний раз в зеркало, чтобы еще раз убедиться, как ладно сидит на нем недавно сшитая шинель. С полминуты ротмистр разглядывал свое отражение, радуясь, что шинель и впрямь хороша. Стервец портной Хамлялайнен дерет за шитье втридорога, но дело свое знает. Ротмистр довольно улыбнулся своему двойнику в зеркале, лихо крутнул острые копчики усов и уже совсем в преотличнейшем расположении духа покинул туалет.