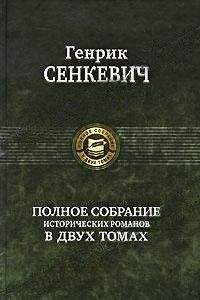Генрик Сенкевич - Огнем и мечом (пер.Л. де-Вальден)
— С князем Иеремией мы пойдем на край света! На татар! На турок! В Стамбул! Да здравствует король Владислав IV! — громче всех кричал Заглоба, который один был в состоянии перепить и перекричать целый полк.
— Господа! — орал он так, что в окнах звенели стекла. — Я уж притянул к суду султана за насилие, которое он позволил себе надо мной в Галате!
— Не говорите Бог знает чего, не то совсем истреплется ваш язык.
— Как так?
— Вы крикливый глухарь.
— Пойду хотя бы в суд!
— Перестаньте же!
— Я объявляю его лишенным чести, а потом — война, но уже война как с бесчестным! За ваше здоровье, господа!
Многие смеялись, а с ними смеялся и Скшетуский, у которого немного шумело в голове. Шляхтич же продолжал токовать, как старый глухарь, упиваясь собственным голосом. К счастью, речь его прервал другой шляхтич, который, подойдя к нему и дернув его за рукав, сказал с певучим литовским акцентом:
— Познакомьте же и меня, пан Заглоба, с поручиком Скшетуским.
— С удовольствием, с удовольствием. Господин поручик, это пан Повсинога [1].
— Подбипента, — поправил шляхтич.
— Все равно! Герба "Сорви шаровары".
— "Сорвиголова", — поправил шляхтич.
— Все равно! Из Собачьих Кишок
— Из Мышиных Кишок, — поправил шляхтич.
— Все равно. Не знаю, что бы я предпочел — собачьи или мышиные кишки. Знаю только, что не желал бы жить ни в тех, ни в других, потому что там и поместиться трудно и выходить оттуда неприлично. Господин поручик, — продолжал он — обращаясь к Скшетускому и указывая рукой на литвина, — вот уже целая неделя, как я пью вино за счет этого шляхтича, у которого меч так же тяжел, как его кошелек; а кошелек его так же тяжел, как и его остроты; но если я когда-нибудь пил вино за счет большего чудака, то я позволю назвать себя таким же олухом, как и тот, кто покупает мне вино.
— Вот так отделал! — кричали, смеясь, шляхтичи.
Но литвин не сердился, а только махал рукой, добродушно улыбаясь и говоря:
— Перестаньте, гадко слушать.
Скшетуский с любопытством смотрел на этого шляхтича, который действительно заслуживал названия чудака. Это был человек такого высокого роста, что доставал головой до потолка, а от чрезмерной худобы казался еще выше. Широкие плечи и жилистая шея свидетельствовали о необыкновенной сипе, хотя весь он был кожа да кости. Живот его был так втянут, будто его морили голодом. Одет он был в серую куртку из свебодинского сукна с узкими рукавами и в высокие шведские сапоги, которые вошли тогда в употребление на Литве. Широкий и туго набитый лосиный пояс не держался на нем, а падал почти до самых бедер: к поясу этому был привешен меч такой длины, что даже этому гиганту упирался под мышку. Но всякий, кто испугался бы меча, тотчас же успокоился бы, взглянув на лицо его владельца. Лицо его, отличавшееся такой же худобой, как и тело, украшенное нависшими бровями и большими усами конопляного цвета, имело добродушное и открытое, как у ребенка, выражение. Нависшие брови и усы придавали ему озабоченный, печальный и в то же время смешной вид.
Он походил на человека, которым все верховодят, но Скшетускому он понравился с первого же взгляда именно своим честным выражением лица и отличной военной выправкой.
— Господин поручик, — сказал он, — вы от князя Вишневецкого?
— Да.
Литвин сложил руки, как бы для молитвы, и поднял глаза вверх.
— Ах, какой это великий воин, какой рыцарь, какой предводитель!
— Дай Бог нашей родине побольше таких
— Конечно, конечно. А нельзя ли мне поступить к нему на службу?
— Он будет очень рад
— Тогда у князя прибавится еще два рожна: один вы, другой — ваш меч; а может быть, он будет вешать на вас разбойников или же мерить вами сукно на знамена! Тьфу! И как это вам не стыдно — вы ведь человек и католик, а длинны как змея или как басурманское копье!
— Противно слушать. — спокойно сказал литвин.
— Как же вас зовут? — спросил Скшетуский. — Извините меня, но я ничего не понял, потому что пан Заглоба все время прерывал вас.
— Подбипента
— Песьянога.
— Сорвиголова из Мышекишек
— Вот так потеха! Хоть я и пью его вино, но будь я дурак, если это не басурманские имена.
— Давно вы из Литвы? — спросил Скшетуский.
— Вот уже две недели, как я в Чигирине. Узнав от господина Зацвилиховского, что вы должны приехать сюда, я ждал вас, чтобы с вашей помощью обратиться к князю со своей просьбой,
— Позвольте мне полюбопытствовать — отчего вы носите меч, как у палача?
— Это, господин поручик, меч крестоносцев, а не палача, а ношу я его потому, что он добыт на войне и давно принадлежит нашему роду. Он уже сослужил службу в литовских руках, под Хойницами — вот поэтому и ношу его.
— Однако это большая штука и, должно быть, страшно тяжелая! Его. наверное, надо держать двумя руками?
— Можно и двумя, можно и одной.
— Покажите-ка.
Литвин снял меч и подал его Скшетускому, но у того сразу отвисла рука, и он не мог свободно ни опустить меч, ни замахнуться им. Тогда он взял его обеими руками, но все-таки ему было тяжело.
Скшетуский немного сконфузился и, обратясь к присутствующим, спросил:
— А кто, господа, может сделать им крест?
— Мы уже пробовали, — ответило несколько голосов, — Один только комиссар Зацвилиховский может поднять его, но креста и он не сделает.
— Ну а вы? — спросил Скшетуский, обращаясь к литвину. Шляхтич поднял меч, как трость, и совершенно свободно
помахал им в воздухе, так что по комнате пошел ветер.
— Ну и сила же у вас! — вскричал Скшетуский. — Вы можете смело рассчитывать на службу у князя.
— Видит Бог, как я ее жажду. Надеюсь, что меч мой не заржавеет.
— Но зато остроумие окончательно, — сказал Заглоба, — так как вы не умеете так же ловко острить, как обращаться с мечом.
Зацвилиховский встал и уже собирался уходить вместе с Скшетуским, как в комнату вошел белый как лунь старик, который, увидев Зацвилиховского, сказал:
— Господин хорунжий! Я нарочно пришел сюда к вам… Это был Барабаш, полковник черкасский.
— Так пойдем же ко мне на квартиру, потому что тут уже идет дым коромыслом, так что не видно света.
Они вышли вместе с Скшетуским.
Как только они переступили порог, Барабаш спросил:
— Нет ли известий о Хмельницком?
— Есть. Убежал в Сечь. Вот этот офицер встретил его вчера в степи.
— Значит, он не поехал водой? А я послал в Кудак гонца, чтобы его поймали, но если так, то напрасно.
И с этими словами Барабаш закрыл руками глаза.
— Спаси Христос, спаси Христос! — повторял он.
— Чего вы тревожитесь?
— Ведь вы знаете, что он обманом вытащил у меня документы! А знаете вы, что значит опубликовать их в Сечи? Спаси Христос! Если король не начнет войны с басурманами — это искра, брошенная в порох!
— Вы предсказываете бунт?
— Не предсказываю, а говорю наверное! Хмельницкий будет почище Наливайки и Лободы.
— Да кто пойдет за ним?
— Кто? Запорожцы, казаки, мещане, чернь, хуторяне — и вот эти.
И Барабаш указал на площадь и снующих по ней людей.
Вся площадь была запружена большими серыми волами, которых гнали в Корсунь для войска, а с ними шли их пастухи, так называемые чабаны, проводившие всю свою жизнь в степях и пустынях, — совсем одичавшие, без всякой религии, как говорил воевода Кисел.
Между ними попадались люди скорее похожие на разбойников, чем на пастухов, свирепые, одетые в какие-то лохмотья. Большая часть их была одета в бараньи тулупы или шкуры шерстью вверх. Все были вооружены самым разнообразным оружием: у одних за плечами торчали луки и колчаны, у других были самопалы (по-казацки — пищали), татарские сабли, у других косы, а у иных даже палки с привязанными на концах лошадиными челюстями. Между ними вертелись низовцы, такие же дикие, но несколько лучше вооруженные; они везли на продажу сушеную рыбу, дичь и баранье сало; чумаки с солью, степные и лесные пасечники, воскобои с медом, лесники с дегтем и смолой, крестьяне с подводами, реестровые казаки, татары из Белгорода и разные бродяги со всех концов света. Весь город был полон пьяных, так как в Чигирине был ночлег, а следовательно, и гулянка. На рынке раскладывали огонь, кое-где горели бочки со смолой. Отовсюду неслись шум и крики. Оглушительный звук татарских дудок и бубнов сливался с мычанием скота и мягкими звуками лир, под аккомпанемент которых слепцы пели любимую песню того времени:
Соколе ясный,
Брате мий ридный.
Ты высоко летаешь,
Ты далеко видаешь.
А рядом раздавались крики пьяных, вымазанных дегтем казаков, плясавших на рынке трепака. Зацвилиховскому достаточно было одного взгляда на эту дикую, разнузданную толпу, чтобы убедиться в том, что Барабаш был прав, говоря, что достаточно малейшего толчка, чтобы поднять эту толпу, привыкшую к разбоям и насилию. А за этой толпой стояли еще Сечь и Запорожье, недавно только обузданное и нетерпеливо грызущее надетые на него удила, еще полное воспоминаний о прежней вольности, ненавидящее комиссаров и составляющее организованную силу. На стороне этой силы были также симпатии крестьянских масс, менее терпеливых, чем в других частях Польши, так как по соседству был Чертомелик, где царствовали безначалие, разбой и свобода.