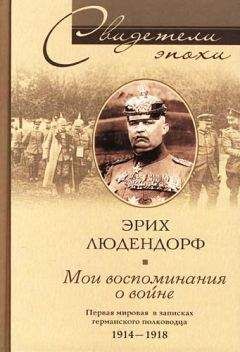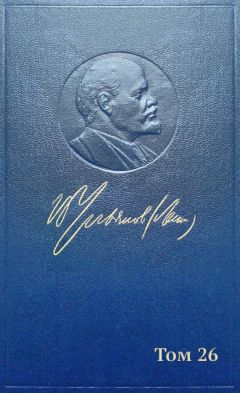Генрик Сенкевич - Огнем и мечом (пер. Владимир Высоцкий)
Громче всех кричал пан Заглоба, который мог перепить и перекричать целый полк.
— Мосци-панове! — орал он так, что стекла в окнах дрожали, — я уже вызвал султана в суд за насилие, которому я подвергся в Галате.
— Не мелите вы вздор! Язык распухнет!
— Как это, мосци-панове? "Quatuor articuli judicii castrensis: stuprum, incendium, latrocinium et vis armata, alienis aedibus illata" [8]. A разве это не было vis armata [9]?
— Крикливый же тетерев — ваша милость!
— Пойду хоть в трибунал!
— Да перестаньте же, ваша милость!
— И приговора добьюсь, и бесчестным его объявлю, а потом война, но уже с обесчещенным… Ваше здоровье!
Некоторые смеялись, смеялся и пан Скшетуский, у него уже слегка шумело в голове, а шляхтич продолжал токовать, словно тетерев, который упивается собственным голосом. К счастью, красноречие его было прервано другим шляхтичем, который, подойдя к нему, дернул его за рукав и проговорил с певучим литовским акцентом:
— Познакомьте же и меня, ваць-пан мосци-Заглоба, с паном наместником Скшетуским.
— С удовольствием, с удовольствием. Мосци-наместник, это — пан По-всинога.
— Подбипента! — поправил шляхтич.
— Все равно! Герба "Сорвиголову"!
— "Сорвикапюшон", — поправил шляхтич.
— Все равно. Из Песьих Кишок.
— Из Мышиных Кишок, — поправил шляхтич.
— Все равно. Я не знаю, что бы предпочел: мышиные или песьи кишки. Верно одно, что ни в тех, ни в других жить бы я не хотел… Ведь там и поместиться трудно, и выйти неприлично! Мосци-пане, — продолжал он, обращаясь к Скшетускому и указывая на литвина, — вот уже целую неделю я пью на счет этого шляхтича, у которого меч за поясом так же тяжел, как кошелек, а кошелек так же тяжел, как его остроты. Но если я когда-нибудь пил за деньги большего чудака, то я позволяю назвать себя таким же дурнем, как тот, что меня угощает!
— Вот отделал! — смеялась шляхта.
Но литвин не рассердился, махнул рукой, ласково улыбнулся и сказал:
— Ну, будет, — слушать гадко!
Пан Скшетуский с любопытством разглядывал эту новую фигуру, которая вполне заслуживала названия чудака. Прежде всего — это был человек столь высокого роста, что он почти касался головой потолка, а необычайная худоба делала его еще выше. Его широкие плечи и жилистая шея говорили о необыкновенной силе, но весь он был — кожа да кости. Живот у него ввалился, как у голодающего. Впрочем, одет он был как человек зажиточный: в серую куртку из свебодинского сукна с узкими рукавами и в высокие шведские сапоги, которые начали на Литве входить в употребление. Широкий, туго набитый лосиный пояс, которому не на чем было держаться, спадал на бедра, а к поясу был подвязан меч крестоносца, такой длинный, что приходился почти под мышки даже этому великану.
Но кто испугался бы меча, тот тотчас бы успокоился, взглянув на лицо его обладателя. Это было худое лицо, с опушенными книзу бровями и нависшими светло-льняными усами, — доброе, простодушное, как у ребенка. Эта обвислость усов и бровей придавала лицу озабоченное, печальное и вместе с тем смешное выражение. Он похож был на человека, над которым люди издеваются, но пану Скшетускому он понравился с первого взгляда за это простодушное выражение лица и прекрасную солдатскую выправку.
— Пан наместник, — сказал шляхтич, — ваша милость, значит, от пана князя Вишневецкого?
— Так!
Литвин молитвенно сложил руки и поднял глаза к небу.
— Ах, какой это великий воин, какой рыцарь, какой вождь!
— Дай бог Речи Посполитой таких как можно больше!
— И верно, верно! Нельзя ли мне поступить под его знамя?
— Он будет рад вашей милости!
Тут в разговор вмешался пан Заглоба:
— У князя будет тогда два вертела для кухни, один — вы, другой — ваш меч… Или нет, он наймет вас палачом и велит вешать на вас разбойников или будет вами сукно мерить. Тьфу, как вам не стыдно, вы, человек и католик, а длинны, как змей, или как басурманский лук.
— Слушать гадко! — сказал литвин терпеливо.
— Как величать вас прикажете? — спросил пан Скшетуский. — Пан Заглоба так перебивал вас, когда вы говорили, что я, извините, ничего не понял.
— Подбипента!
— Повсинога!
— Герба "Сорвикапюшон" из Мышиных Кишек.
— Вот потеха! Я пью его вино, но назовите меня дураком, если это не басурманские имена.
— Давно вы из Литвы? — спрашивал наместник.
— Вот уже две недели в Чигирине. Узнав от пана Зацвилиховского, что ваша милость будет здесь проезжать, я ждал, чтобы под вашим покровительством предложить князю свои услуги.
— Скажите мне, ваша милость, зачем это вы носите под мышкой такой меч палача?
— Не палача, пан наместник, такие мечи крестоносцы носили! Ношу его, потому что он добыт в бою и давно уж в нашем роду. Еще под Хойницами он был в литовских руках, вот я его и ношу.
— Но ведь эта махина, должно быть, страшно тяжела! Разве для обеих рук?
— Можно обеими, можно и одной.
— Покажите-ка!
Литвин обнажил меч и подал его, но рука Скшетуского сразу опустилась. Ни замахнуться, ни ударить свободно! Попробовал было обеими руками, но и это было тяжело. Пан Скшетуский немного смутился и обратился к присутствующим:
— Ну, мосци-панове, кто сделает крест?
— Мы уж пробовали, — ответило несколько голосов. — Один пан комиссар Зацвилиховский поднимает, но креста и он не сделает.
— Ну а ваць-пан? — спросил пан Скшетуский у литвина.
Шляхтич поднял меч, как тросточку, и взмахнул им несколько раз в воздухе с необычайной легкостью: в комнате засвистело и по лицам прошел ветер.
— А, пусть вам Бог помогает! — воскликнул пан Скшетуский. — Вы наверное попадете на службу к князю!
— Видит бог, что жажду этой службы; там мой меч не заржавеет.
— Зато остроумие — окончательно, — прибавил пан Заглоба, — с ним вы не умеете так обращаться.
Зацвилиховский встал и собирался уже уходить вместе с наместником, как вдруг на пороге комнаты показался седой как лунь старик и, увидя Зацвилиховского, сказал:
— Мосци хорунжий-комиссар, а я к вам нарочно. Это был Барабаш, черкасский полковник.
— Ну так пойдемте ко мне на квартиру! Тут столько народу, что света не видно.
Оба вышли; с ними и Скшетуский. Сейчас же за порогом Барабаш спросил:
— Нет ли вестей о Хмельницком?
— Есть. Бежал в Сечь. Вот этот офицер встретил его вчера в степи.
— Значит, он поехал не водой? Я отправил гонца в Кудак, чтоб его поймали, но, если это верно, — значит, напрасно.
Барабаш закрыл глаза руками, повторяя:
— О, спаси Христос, спаси Христос!
— Чего вы беспокоитесь, ваць-пане?
— А вы знаете, ваша милость, что он у меня похитил обманом? Знаете, что будет, если обнародовать в Сечи эти документы? Спаси Христос! Если король не объявит войны с басурманами, — это искра в порох…
— Вы предсказываете мятеж?
— Не предсказываю, а вижу. Хмельницкий почище Наливайки и Лободы.
— А кто пойдет за ним?
— Кто? Запорожцы, реестровые, горожане, чернь, хуторяне и вот эти!
Тут пан Барабаш указал на рынок и толпившихся на нем людей. Весь рынок был переполнен большими серыми быками, которых гнали в Корсунь для войска; быков сопровождали целые полчища пастухов, так называемых чабанов, которые всю свою жизнь провели в степях, в пустыне, — людей совершенно диких, не признающих никакой религии, religionis nullius [10], как говорил воевода Кисель. Между ними можно было заметить людей, скорее походивших на разбойников, чем на мирных пастухов, — диких, страшных, покрытых лохмотьями разной одежды. Большая часть была одета в бараньи тулупы или в невыделанные овчины шерстью наружу, открывавшие даже зимою голую грудь, закаленную степными ветрами. Каждый был вооружен, но самым разнообразным оружием: у одних за плечами висели луки, у других самопалы, или так называемые казацкие "пищали", у третьих татарские сабли, косы, а то и просто дубины с привязанной на конце конской челюстью. Среди них сновали не менее дикие, хотя и лучше вооруженные низовцы, везущие на продажу вяленую рыбу, дичь и баранье сало; потом чумаки с солью, степные и лесные пасечники с медом и воском, смолокуры с дегтем; затем крестьяне с подводами, реестровые казаки, татары из Белгорода и бог еще знает кто — бродяги, "сиромахи" с края света. Весь город был полон пьяных, в Чигирине приходилось ночевать, значит, и погулять на ночь. На рынке разложили костры; местами пылали бочки со смолой. Везде стоял шум и говор. Пронзительный звук татарских пищалок и барабанов смешивался с мычаньем скота и мягкими звуками лир, под аккомпанемент которых слепые распевали любимую тогда песню:
Соколе ясний,
Брате мий ридний,
Ты высоко литаешь,
Ты далеко видаешь.
А рядом раздавались дикие возгласы: "Гу-га! Гу-га!" казаков, совершенно пьяных, вымазанных дегтем и отплясывающих на рынке трепака. Все это было чем-то диким и безумным.