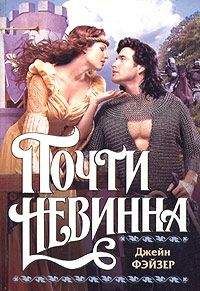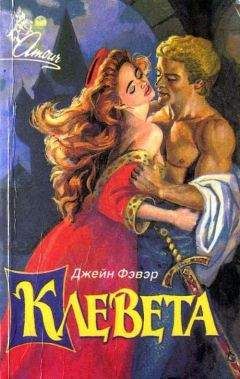Андрей Зарин - Двоевластие
— Я не мог один держаться! Ты там позади был. Водку пил! — кричал Сандерсон.
— Я водку пил, а с поляков отступного не брал!
— А я взял?
— Должно быть, что так!
— Я не вор! — заорал Сандерсон. — Я тебя за это! — И он бросился на Лесли с обнаженным кинжалом.
Лесли выхватил пистолет. Раздался выстрел. Палатка наполнилась дымом. Сандерсон корчился на полу в предсмертных муках.
— Вот тебе, собака! — четко сказал Лесли и, сунув пистолет за пояс, медленно вышел из палатки.
Все повскакали с мест и бросились к Сандерсону. Он умирал и в предсмертной агонии рвал воротник кафтана.
Шеин в отчаянии схватился за голову и кричал:
— Убить Лесли! Повесить!
— Руки коротки! — грубо ответил ему Гиль, выходя из палатки вслед за Шарлеем.
Князь Прозоровский позвал стражу и велел вынести труп.
Оставшиеся грустно посмотрели друг на друга.
— Плохой совет! — произнес наконец Измайлов.
— Я говорил тебе, — с горечью воскликнул Шеин, — я не начальник, меня не слушают, мне дерзят и при мне ссоры заводят.
— Что же будет теперь? — уныло проговорил Аверкиев. — Без начала нам всем умирать придется.
— Все в руках Божьих! — строго сказал князь Прозоровский.
Вести о неудачах под Смоленском доходили до Москвы и сильно волновали государей. А вскоре к этим неприятностям для царя Михаила прибавилось новое горе.
Однажды он сидел в своем деловом покое и беседовал с Шереметевым и своим тестем Стрешневым о войне и делах государственных, когда вдруг в палатку вошел очередной ближний боярин и, поклонившись царю, сказал:
— С патриаршего двора боярин прибыл. Тебя, государь, видеть хочет!
— От батюшки? — произнес Михаил. — Зови!
Толстый, жирный боярин Сухотин торопливо вошел и, упав на колени, стукнул челом об пол.
— К тебе, государь! — заговорил он. — Его святейшеству патриарху занедужилось; за тобою он меня послал.
Михаил быстро встал, на лицах всех изобразилась тревога. Все знали твердый характер Филарета и его стойкость в болезни, а потому понимали, что если он посылает за сыном, то, значит, ему угрожает серьезная опасность.
— Закажи колымагу мне, боярин, да спешно-спешно! — приказал Михаил. — А ты, Федор Иванович, — обратился он к Шереметеву, — возьми Дия да Бильса и спешно за мною!
Шереметев вышел. Спустя несколько минут Михаил Федорович ехал к патриарху, а еще спустя немного стоял на коленях у кровати, на которой лежал его отец.
Лицо патриарха потемнело и осунулось, губы сжались и только глаза горели лихорадочным блеском.
— Батюшка, — со слезами воскликнул Михаил, припадая к его руке, — что говоришь ты! Что же со мною будет?
Филарет перевел на него строгий взор, но при виде убитого горем сына этот взор смягчился.
— Не малодушествуй! — тихо сказал патриарх. — Царю непригоже. Говорю, близок конец мой, потому что чувствую это… А ты крепись! Будь бодр, правь крепко и властно!
— Не может быть того, батюшка! Дозволь врачам подойти к тебе. Пусть посмотрят.
— Что врачи? Господь зовет к Себе раба Своего на покой. Им ли удержать Его волю?
— Дозволь, батюшка! — умоляюще повторил Михаил.
Филарет кивнул.
— Зови! — тихо сказал он.
Михаил быстро встал, подошел к двери и сказал Шереметеву:
— Впусти их, Федор Иванович!
Дверь приоткрылась, и в горницу скользнули Дий и Бильс. Они переступили порог и тотчас упали на колени. Царь махнул рукою. Они поднялись, приблизились к постели и вторично упали пред Филаретом. Он слабо покачал головой.
— Идите ближе, — сказал он, — успокойте царя.
Врачи поднялись и осторожно приблизились к постели патриарха. Они по очереди держали его руки, слушая пульс, по очереди трогали голову и, ничего не понимая, только хмурились и трясли головами. Состояние медицины было в то время настолько жалко, что врачи не могли, в сущности, определить ни одной болезни. Но панацеи существовали и в то время в виде пиявок, банок и пускания крови, и к этому согласно прибегли и царские врачи.
— Полегчало, батюшка? — радостно спросил Михаил, когда к Филарету после этих средств, видимо, вернулись упавшие силы.
— Полегчало, — ответил он, — но чувствую, что болезнь эта последняя. Не крушись! — ласково прибавил он.
И, действительно, к вечеру с патриархом сделался бред, а в следующие дни он явно угасал.
Москва взволновалась. Народ толпился в церквах, где шли беспрерывные молебны, колокольный звон стоял в воздухе; всюду виднелись встревоженные, опечаленные лица. У патриаршего дома не убывала толпа народа. Одни приходили, другие уходили и тревожным шепотом делились новостями.
Царь почти все время проводил у патриарха. Он совершенно упал духом, его глаза покраснели и опухли от слез; склонясь у одра болезни, он беспомощно твердил:
— Не покинь меня, батюшка!
Патриарх смотрел на него любящим, печальным взглядом, и глубокая скорбь омрачала его последние часы.
— Государь, — говорили царю бояре Шереметев, Стрешнев и князь Черкасский, — не падай духом. Страшные вести! поляки на Москву двинулись…
Михаил махал рукою.
— Не будет для Руси страшнее кончины моего батюшки!
— Что делать? Прикажи!
— Сами, сами!
Владислав действительно отрядил часть армии на Москву.
Ужас охватил жителей при этой вести. Вспомнились тяжелые годы московского разорения и вторичного вторжения поляков в стольный город.
— Невозможно так! — решил Шереметев. — Князь! — обратился он к Черкасскому. — Надо дело делать! Есть у нас еще ратные люди. Стрельцы есть, рейтары. Надо собрать и на ляхов двинуть!
— Кто пойдет?
— Пошлем Пожарского! Я нынче же к нему с приказом князя Теряева пошлю. Пусть они оба и идут.
На другой день князь уже собирал рать, чтобы двинуться на поляков. Народ успокоился. Спустя неделю десять тысяч двинулись из Москвы под началом Теряева и Пожарского.
Они встретились с поляками под Можайском и были разбиты, но все-таки удержали движение поляков.
Князь Черкасский, сжав кулаки, с угрозой подымал их в думе и говорил:
— Ну, боярин Шеин, зарезал ты сто тысяч русских. Будешь пред нами отчитываться.
И никто ему не перечил; только Теряев-князь, качая головою, сказал Шереметеву:
— Торопитесь осудить Шеина. Ведь о нем еще и вестей нет!
— Я что же? — уклончиво ответил Шереметев. — Смотри: на него и дума, и народ!
Только патриарх, мирно отходя на покой, не ведал вовсе московской тревоги. В ночь на 1-е октября 1634 года он спешно приказал прибыть Михаилу с сыном Алексеем, которому было всего пять лет.
Михаил рыдая упал на пол, но патриарх, собрав последние силы, строго сказал:
— Подожди! Забудь, что ты мой сын, и помни, что царь есть! Слушай!
Царь тотчас поднялся. Его заплаканное лицо стало торжественно-серьезным.
Филарет оставлял ему свое духовное завещание. Он говорил долго, под конец его голос стал слабеть. Он велел сыну приблизиться и отдал последние приказания:
— Умру, матери слушайся. Она все же зла желать не будет, а во всем с Шереметевым советуйся и с князем Теряевым. Прямые души… Марфа Иосафа наречь захочет. Нареки! Правь твердо. В мелком уступи, не перечь, а в деле крепок будь. Подведи сына! Ему дядькой — Морозов! Помни! муж добрый! Возложи руку мою!
Царь подвел младенца и положил руку своего отца на голову сына. Патриарх поднял лицо кверху и восторженно заговорил, но его слова нельзя было разобрать. Вдруг его рука соскользнула с головы внука. Ребенок заплакал.
— Батюшка! — раздирающим душу голосом вскрикнул Михаил.
С колокольни патриаршей церкви раздался унылый звон, и скоро над Москвою загудели печальные колокола. Народ плакал и толпами стекался поклониться праху патриарха.
Боярин Шереметев прискакал в Вознесенский монастырь и торопливо вошел в келью игуменьи.
Смиренную монахиню нельзя было узнать в царице Марфе. Она выпрямила стан и словно выросла. Ее глаза блестели.
— А, Федор Иванович пожаловал? — сказала она. — С чем?
Шереметев земно поклонился ей.
— Государь прислал сказать тебе, что осиротел он. Патриарх преставился!
Марфа набожно перекрестилась, с трудом скрывая улыбку торжества на лице, и сказала:
— Уготовил Господь ему селения райские!
Шереметев поднялся с колен.
— Наказывал он что-либо царю? — спросила инокиня Марфа.
— Наедине были, государыня. Не слыхал!
— Кого за себя назначил?
— Не ведаю!
— Так! Слушай, Федор Иванович: буде царь тебя спросит, говори — Иосафа. Муж благочестивый и богоугодный!
— Слушаю, государыня!
— Еще сейчас гонцов пошли: двух к Салтыковым, одного — к старице Евникии. Измучились они в опале.
— Слушаю, государыня!