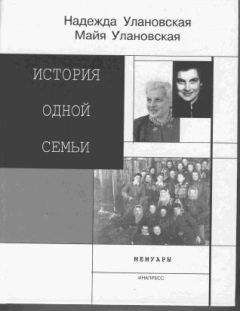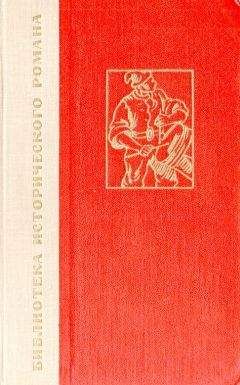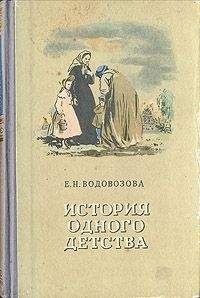Эркман-Шатриан - История одного крестьянина. Том 1
Дорого обходятся такие испытания!
Все уселись, и почти сейчас же, на другом конце зала, появился король, окруженный принцами крови, герцогами и пэрами, капитанами своей гвардии и несколькими лейб-гвардейцами. Никто из нас не крикнул: «Да здравствует король!» Никто не поднялся с места. Но вот водворилась тишина, и король произнес речь. Он заявил, что, «по его мнению, он делает для своего народа одно лишь благо и что нам остается только завершить его труды, а мы в продолжение двух месяцев все никак не можем прийти к согласию о предварительных действиях, и он принужден положить конец этому пагубному раздору. В силу чего он и объявляет свою волю».
Закончив речь, он сел, а государственный секретарь прочел нам его волю:
«Статья 1. Королю угодно, чтобы прежние различия между тремя сословиями королевства сохранялись полностью и чтобы образовано было три отдельные палаты. Он объявляет недействительными решения, принятые депутатами третьего сословия 17-го сего месяца.
Статья 2. Его Величество, утверждая отдельные заседания по сословиям, вместе с тем повелевает, во избежание недоразумений, довести это до сведения всех сословий.
Статья 3. Король отменяет и упраздняет какие-либо ограничения в полномочиях депутатов».
Таким образом, каждый из нас мог бы делать все, что ему заблагорассудится: предоставлять субсидии, голосовать за налоги, урезывать права нации и т. д., не заботясь о наказах тех, кто послал нас.
«Статья 4 и 5. Если иные депутаты безрассудно дали клятву в том, что останутся верны своим полномочиям, король дает позволение каждому из них сообщить письменно в свой бальяж о снятии с себя этих полномочий, но пока поста своего не оставлять, дабы придать вес всем постановлениям Генеральных штатов.
Статья 6. Его Величество объявляет, что впредь на заседаниях всех сословий он больше не позволит депутатам отстаивать наказы избирателей».
И это понятно — иначе бы негодяи, торгующие своими голосами, с головой выдали бы себя, оказавшись среди честных людей, отстаивающих наказы избирателей.
Далее его величество давал понять нам, каким образом, по его мнению, мы должны действовать. Прежде всего он запрещал нам отныне обсуждать дела, касающиеся старинных прав трех сословий; обсуждать структуру будущих Генеральных штатов, вопрос о сеньориальных и феодальных поместьях, о почетных правах и прерогативах первых двух сословий. Его величество объявлял, что нужно особое соизволение духовенства во всех делах, касающихся религии, церковных уставов, управления мирским духовенством и монашеством.
Словом, сосед Жан, мы были призваны только для того, чтобы погасить дефицит и проголосовать за то, чтобы народ дал деньги, остальное нас не касается, — все хорошо, все превосходно! Все должно остаться по-прежнему, после того как мы внесем деньги.
Чтение указа закончилось, и король снова встал и заявил, что еще никогда ни один монарх так не пекся о благе своих подданных, как он, и что те, кто не сразу исполнит его отеческую волю, будут недостойны называться французами.
Тут он снова сел, и нам прочли его волеизъявление — указы о налогах, займах и прочих финансовых делах.
Королю угодно было изменить название налогов — понимаете, сосед Жан, «название». Таким образом, если талью соединить с двадцатиной или заменить другой податью, станет гораздо удобнее: платить будете не ливр, а двадцать су, платить будете не сборщику налогов, а инспектору. И народу будет житься куда как легче!
«Никогда ни один монарх так не пекся о благе своих подданных»! Он намеревался было упразднить систему тайных арестов[88], но сохранил ее, чтобы щадить фамильную честь узников. Все ясно!
Он намеревался провозгласить свободу печати, но с тем, чтобы запретить печатание «вредных газет» и «вредных книг».
Он намеревался делать займы с согласия Генеральных штатов, но объявлял, что в случае войны он вправе делать займы самолично, до наивысшей суммы в сто миллионов для начала. «Ибо непреклонное решение короля никогда не ставит благо монархии в зависимость от воли других».
Он намеревался также посоветоваться с нами насчет мест и должностей, которые в будущем дадут право на присвоение и передачу дворянского звания.
Одним словом, нам прочли длинный список всякой всячины, о которой с нами намеревались посоветоваться. Но король всегда оставлял за собою право действовать по своему усмотрению, наше же дело было платить. Тут-то у нас всегда было преимущество.
Король снова принялся говорить. Вот что он сказал:
«Имейте в виду, господа, что ни один ваш замысел, ни одно решение не могут иметь законной силы без моего особого на то соизволения — ведь я истинный защитник ваших прав. В моих руках все счастье моего народа, и вряд ли часто бывает, чтобы монарх добивался согласия своих подданных на то, чтобы даровать им свои милости. Приказываю вам, господа, немедленно разойтись и завтра утром явиться в залу, предназначенную для каждого сословия, дабы продолжать заседания».
Словом, нас поставили на место. Призвали нас лишь для того, чтобы мы утвердили голосованием денежные фонды, — вот и все. Если б парламент не заявил, что все налоги до сих пор взимались незаконно, нашему доброму королю и в голову не пришла бы мысль созвать Генеральные штаты. Да вот оказалось, что Генеральные штаты еще большая помеха, чем парламент, нам приказывали, как челяди: «Приказываю вам немедленно разойтись».
Епископы, маркизы, графы и бароны злорадствовали, видя наше смятение, и взирали на нас с высоты своего величия. Но поверьте, сосед Жан, мы не опустили глаз; мы дрожали от ярости.
Не добавив ни слова, король поднялся и вышел тем же манером, что и пришел. Почти все епископы, несколько священников и большая часть депутатов-дворян вышли через парадные двери на улицу.
Нам же предстояло выбираться через узенькую дверь на Шантье, но мы не трогались с места. Каждый размышлял, запасался мужеством, копил ярость.
Так продолжалось с четверть часа. И вдруг с места поднялся Мирабо. Его большая голова была откинута, глаза сверкали. Наступила зловещая тишина. Взгляды были устремлены на него. Он произнес своим внятным голосом:
— Господа! Признаю — все, что вы услышали, могло бы послужить ко благу отечества, если бы дары деспотизма не были всегда чреваты опасностью! Что это за оскорбительное самоуправство! Вам приказывают быть счастливыми — приказывают с помощью оружия, нарушая вашу национальную честь!
Все содрогнулись — мы понимали, что Мирабо может поплатиться головою. Он и сам это хорошо знал, но был вне себя от негодования. Его лицо преобразилось, стало прекрасным — да, сосед Жан: тот, кто готов отдать жизнь в борьбе с несправедливостью, — прекрасен, прекраснее этого нет ничего на свете. Он продолжал:
— Кто приказывает вам это? Ваш уполномоченный! Кто даст вам непререкаемые законы? Ваш уполномоченный — тот, кто должен, господа, получать их от нас, облеченных священными и нерушимыми политическими правами. От нас, на которых двадцать пять миллионов человек смотрят с надеждой, ожидая хоть относительного счастья, ибо счастье должно стать всеобщим уделом, достоянием, даром.
Каждое его слово, словно пуля, вонзалось в ветхий трон абсолютизма.
— Но свобода ваших совещаний крепко закована в кандалы, — возгласил он, сопровождая эти слова жестом, заставившим нас содрогнуться, — нас охраняют войска! Где враги родины? Уж не Катилина ли у наших ворот? Я напоминаю вам о вашем достоинстве, о вашей законной власти и требую, чтобы вы свято соблюдали вашу клятву. Она не позволяет вам расходиться до того, как будет выработана конституция.
Пока он говорил, обер-церемониймейстер, проводив короля, вернулся в зал и, держа в руках шляпу с перьями, шел мимо пустых мест, оставленных знатью. Не успел Мирабо кончить, как маркиз что-то негромко сказал — никто не расслышал его слов и раздались раздраженные выкрики:
— Громче! Громче!
И тогда, повысив голос, он произнес среди наступившей тишины:
— Господа, вы слышали повеление короля!
Мирабо все еще стоял — с гневом и презрением сжав свои огромные челюсти.
— Да, сударь, — отвечал он медленно, высокомерным тоном знатного сеньора, — мы слышали волеизъявление короля, внушенное ему другими. А вы, вы не можете выражать его волю перед Генеральными штатами. Вы не имеете права ни говорить, ни присутствовать здесь и не уполномочены напоминать нам о его речи.
Затем, выпрямившись и смерив взглядом обер-церемониймейстера, он продолжал:
— Однако, во избежание всяких недомолвок и промедлений, объявляю вам: раз вам поручено выгнать нас отсюда, вы должны испросить приказа о применении силы, ибо мы оставим наши места только под угрозой штыков.
Все депутаты поднялись, как один человек, с возгласом: