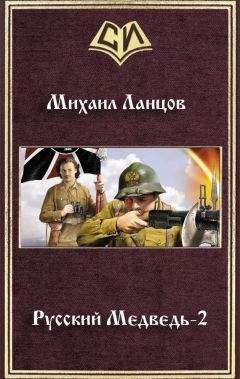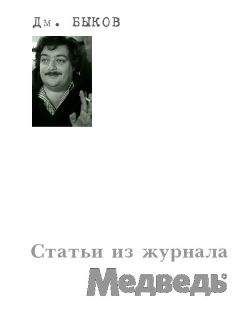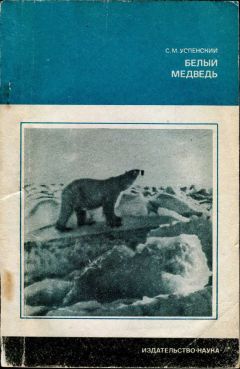Генрих Йордис фон Лохаузен - Верхом за Россию. Беседы в седле
— Самый сильный в одиночку, — продолжал всадник в середине, — это только Всемогущий. Во всяком случае только он может избавиться от обременительных для него помощников. Тем не менее, умный полководец побеждает с чужой силой, когда он только может, и бережет собственную.
— Как раз это я и хотел сказать, — ответил офицер на вороном коне. — Высокомерие предшествует падению. Мы пока еще наступаем. Но немного к северу отсюда летом 1812 года Наполеон тоже наступал. Он даже выиграл свою единственную на русской земле битву. Но не прошло и трех лет, как царь Александр, император Франц и король Фридрих-Вильгельм вместе въехали верхом в Париж, потому что они не побоялись разделить их славу; не более как сегодня вожди в Кремле, они же все время призывают и призывают к открытию второго фронта. Если мы провалимся, они, вероятно, создадут объединенную Евразию. Кто-то же, наконец, должен был бы совершить это. И если они действительно затопчут нас своими массами танков и людей, насколько далеко ворвутся они вглубь этой Европы? Ведь они только для виду союзники запада, и до сих пор только проливали за него кровь. До Атлантики?
— Вероятно, — ответил всадник в середине. — Тысячу лет Германия была дамбой Европы, хранителем ее обоих входов, одного на Дунае и другого вблизи Балтийского моря. Нельзя разрушать дамбы безнаказанно. Взорвать их это одно, сдержать после этого прилив — другое. То, что не удастся остановить у Мемеля, нельзя будет остановить позже ни на Одере, ни на Рейне, ни на Ла-Манше. То, что не сдержим сейчас мы, потом вряд ли сможет остановить запад. С помощью какой идеи он тогда сдержит идею мировой революции? Ведь у него самого никаких идей нет. Потому и его судьба в определенной степени лежит в наших руках, и — если мы как раз вовремя присоединились бы к этой революции — вероятно, даже судьба американцев. Как бы бессмысленно это не звучало, но мы несем ответственность даже за наших врагов.
Но что такое уже эта Европа без Германии? Береговая полоса в западной части Азии, в глазах русских это ничто! Просто посмотрите на нас из-за границы! Представьте себе, что за вами десятки тысяч километров земли, десятки тысяч километров степей, гор, лесов и тундры, а перед вами уже вовсе не двести или триста километров, на горизонте уже серебряная лента Атлантики, четыре, пять тысяч километров воды, свободный взгляд на Америку, на тропики, на весь мир! Остановитесь ли вы? Вы бы только пришпорили своих лошадей, и в крайнем случае даже подгоняли бы их плеткой.
— Но если, однако, до этого не дойдет, — возразил офицер на вороном коне, — если мы — предположим, став жертвой перевеса сил врага — в конце, все же, падем к ногам другой стороны, то я предвижу наступление самого темного, самого опустошенного периода для Германии. Все же, те там, со временем поняли, что не смогут уничтожить Германию, если оставят ей самое сильное, на длительный срок самое надежное из ее оружия: ее свободу мыслей. Ведь несмотря на все зло, причиненное нам союзниками и после 1918 года тоже — вспомните только о продолжавшейся и после окончания войны голодной блокады и о сотнях тысяч детей, павших ее жертвами в 1919 году, они, однако, позволяли нам по-прежнему думать так, как мы хотели.
— И мысли — это силы, — дополнил едущий в середине, — и они все еще могут, если катапультировать их в лагерь противников, проложить нам путь в будущее, единственный с ясным разумом возможный для нас путь: против любого безумия в мире, против безумия господства единственного класса, расы — или вновь класса в образе тех денег. Прорыв к самоопределению всех народов: настоящая всемирно-историческая миссия нашего Вермахта.
— К счастью, будущее еще открыто, — сказал тот, кто скакал на вороном коне.
— И современность полностью открыта, «сейчас и здесь», нужно ее только увидеть, — заметил офицер на рыжей лошади. — Вы всегда говорите только о том, что было или должно было быть или что будет, никогда о том, что происходит прямо сейчас. Но только это и есть жизнь, непосредственная действительность, не в мечтах, не прочувствованная позднее, а ощутимая, всем нашим чувствам доступная действительность. Только у нее, только у мгновения есть плоть и кровь, только она в то же время — часть вечности. И никогда что-то не вернется назад таким, каким оно было. Потому поверьте мне: пусть мы и маршируем сегодня и в еще такое далекое, еще сегодня пасмурное будущее тоже, но, несмотря на это, наш звездный час — сейчас, все это вокруг нас, — это войско, подобному которого еще не было никогда. Чудо внутри него — это мы, дети и наследники Первой мировой войны, которым теперь приходится вести нашу собственную войну, снова только с сеном, зерном и углем против нефти других, и ни с какой иной надеждой, кроме надежды на силу наших сердец и наших голов. Чудо — это мы, миллионы молодых людей от Тобрука досюда и дальше до Нордкапа, которые все говорят на одном языке, на языке этого часа…
Если бы немецкая история не сотворила ничего другого кроме только этого, она уже сделала бы достаточно. Прусская армия и армия императора, они существовали на протяжении веков, но уже армии наших отцов, немецкая армия 1914 года и еще больше австрийская того времени, они были чем-то неповторимым, никогда не возвращавшимся, и лишь только теперь — долгое лето последних лет, далекие дороги, никогда не умолкающие песни… Мне, однако, снова и снова вспоминается еще одно, стихотворение, написанное одной женщиной, Иной Зайдель: «… И вечно пахнут липы…». Это как разгар лета в Померании или в Бранденбурге или также здесь, и, однако, больше…
— Там сказано не «вечно», — прозвучал вдруг более молодой голос. Это был юноша на пегой лошади. — Там было сказано «Бессмертно пахнут липы», а дальше написано так:
«О чем ты только беспокоишься?
Ты уйдешь и след твоих ног
Скоро ни один глаз уже не найдет в песке.
Но синее и яркое лето придет
И будет своим сладким веянием
Мягко освобождать бедную человеческую грудь.
Откуда ты идешь? Как долго будешь ты еще здесь?
Что зависит от тебя?
Бессмертно пахнут липы…»
Довольно долго они ехали молча, тогда офицер на рыжей лошади снова принял нить разговора: — Мы — странники между двумя мирами — однако, не только, как видел это Вальтер Флекс: между миром земным и потусторонним миром или только между востоком и западом, а странники по очень тонкой грани: между судьбой и обетом, между прошлым, которое закрылось за нами навсегда, и будущим, которое не будет похожим ни на что, что ему предшествовало, и на сегодня тоже. Что бы ни происходило: мир, из которого мы вышли и в котором мы выросли, Германия нашей юности, в нее мы никогда больше не вернемся, и то, что мы испытываем теперь, мы никогда больше не испытаем, а также никто не испытает это после нас так же, как мы. Мы еще где-то дома, дома и в то же время здесь с этими нашими лошадьми и нашими солдатами и со всеми теми, мысли о которых сопровождают нас. Мы еще едины, сегодня, завтра, а потом однажды уже больше нет.
Путешествовали ли вы когда-то по высоким горам, целыми днями от вершины к вершине, с вероятно пятью, или с шестью, или с семью товарищами? Пока вы поднимаетесь вверх и спускаетесь вниз, идете к всегда новым приключениям, тогда вы все едины сердцем и душой. Но потом, в долине, когда каждый из вас, смертельно уставший от пусть яркого, но изматывающего дня, все больше и больше возвращался снова к себе самому, и в своих мыслях удалялся все дальше от такой еще бодрой общности, улетая в мыслях к каким-то далеким, но только своим, только собственным целям, там безмолвно и незаметно ослабевало то, что связывало вас. Вы по отношению друг к другу, пожалуй, все еще оставались все теми же, но в то же время уже больше не были такими. Вы больше не были наверху между глетчерами и острыми горными хребтами. Осталась только скрытая тоска по дому после этого. Так и мы когда-то будем жить, после этой войны, все равно, совершенно все равно, каким путем пойдет эта война.
— Все равно, каким путем она пойдет! — сказал неожиданно офицер, скачущий в середине. — Видите вон те березы на холме? Их девичий вид заставляет меня думать о будущем. Не готовит ли наступающий теперь век господству нашего накренившегося в одну сторону мужского мира давно заслуженный конец? Не будет ли эта новая эпоха, подобно веку романтику, в большей степени, чем он, веком равновесия души и разума, увеличенного сопроникновения, созвучия инь и янь, возрастающего поиска в направлении не постижимого нашими пятью органами чувств, в направлении возрастающей прозрачности к еще сегодня невидимым для нас мирам?
После того, как он довольно долго проскакал безмолвно, долговязый силезец продолжил свои мысли: — О бесподобном перевороте, «не пройдет и двух тысяч лет», сообщает не только Священное писание. Также говорится, что последует один знак за другим, чтобы предостеречь нас. Не видим ли мы их уже перед нами? Мир, который становится все безобразнее, неспособным ни к какой еще имеющей правильное сложение форме! Посмотрите на наши города! И подумайте о них еще двести или триста лет назад, о лице домов, улиц и мест тогда и теперь! Почему все желаемое искусство сегодня остается настолько неизмеримо ниже того, что создатели металлоконструкций и мостостроители часто без какой-либо художественной цели устанавливают вместо него на местности?