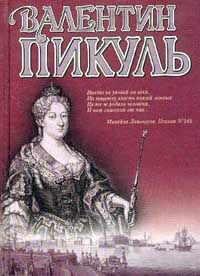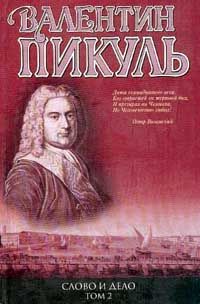Валентин Пикуль - Слово и дело. Книга 1. «Царица престрашного зраку»
— Чего шепчешь-то? — спросил. — Иль молишься, ангел мой?
— Какое там! — отвечала Наташа. — Мои слова сейчас нехорошие, слова матерные. Я эти слова от мужиков да солдат слышала, а теперь дарю их боярам московским… Псы трусливые, я плачу, но им тоже впереди плакать! От царицы нынешней — добра не видится!
— Молчи. — И князь Иван ей рот захлопнул. — Кучер услышит…
Повернулась к ним с козел мужицкая борода:
— Эх, князь, рта правде не заткнешь… А Только, ежели вам, боярам, худо будет, то каково же нам, мужикам? То-то, князь!..
Вернулись новобрачные в Горенки, а там уже собираются. Свекровь и золовки бриллианты на себя вешают, швы порют на платьях, туда камни зашивают. Да галантерею прячут, рвут одна у другой кружева, ленты всякие и нитки жемчужные… Наташа четыреста рублей для себя отсчитала, а остальные шестьсот брату Пете Шереметеву на Москву отправила. А все, что было у нее дорогого, вплоть до чулок, в один большой куколь завернула.
— На Москве и оставлю, — решила. — Мне и так ладно будет…
Взяла только тулуп для князя Ивана, а себе шубу. По случаю траура, как была в черном, так и тронулась в черном судьбе навстречу. От Москвы еще недалеко отъехали, как тесть Наташин князь Алексей Григорьевич объявил сыну:
— Ну и дурак же ты, Ванька! Да и ты, невестушка, тоже дура. Нешто вы думаете, что я вас, эких мордатых, на своем коште держать стану? Тому не бывать: сами кормитесь…
Громыхали по ухабам телеги, плыли в разливах апрельских луж княжеские возки. Статные кони, из царских конюшен краденные, выступали гарцующе, приплясывая. Солнышко припекало. Благодать!
— Бог с ними, с боярами, — стала улыбаться Наташа. — В деревне-то еще и лучше. Заживем мы на славу, Иванушко…
А в провинцию как въехали — нагнал их капитан Петр Воейков и велел кавалерии поснимать. Так были запуганы Долгорукие, что даже рады от орденов отказаться. Только бы фамилию не трогали!
Ну и кучера же попались — еще городские, по Москве возили господ с форейторами. А тут, на приволье лесов, дороги не могли выбрать. Плутал обоз долгоруковский по болотам да по корчагам. В деревнях у мужиков часто выпытывали:
— Эй, где тут на Касимов заворачивать? Приходилось Наташе и в лесу ночевать. Место посуше Алексею Григорьевичу со свекровью отводили. Потом царская невеста — Катерина шатер свой разбивала. Отдельно жила! Вокруг остальные княжата: Николашка, Алексей, Санька и Алена с Анькой. А на кочках мужиков с возницами расположат, там и князя Ивана с Наташей держат.
Сами-то князья припасы московские подъедают, а Наташа часто голодной спать ляжет, к груди Ивана прижмется, он ее приласкает, она и спит до зари, счастливая…
Сколько было ласк этих — в разлив весенний, в шестнадцать лет, на сеновалах мужицких, среди колес тележных, в сенцах, где тараканы шуршат, да на подталой земле! И ничего больше не надо: пускай они там — эти «фамильные» — едят куриц, стекает жир, льется вино из погребов еще царских… Ей, Наташе, и так хорошо.
Одна лишь свекровь Прасковья Юрьевна Долгорукая (сама из рода князей Хилковых) жалела молодую невестку свою.
— За што вы ее шпыняете? — детям своим выговаривала. — В радости вашей не была вам участницей, а в горести стала товарищем. Уважение к Наталье Борисовне возымейте, скорпионы вы лютые! Как это моя утробушка не лопнула, вас, злыдней бессовестных, выносив? О, горе нам. Долгоруким, горе…
* * *«Это мне очень памятно, что весь луг был зеленой, травы не было, как только чеснок полевой, и такой был дух тяжелый, что у всех головы болели. И когда ужинали, то видели, что два месяца взошло, ардинарный болшой, а другой, подле него, поменьше. И мы долго на них смотрели, и так их оставили — спать пошли…
Приехали мы ночевать в одну маленькую деревню, которая на самом берегу реки, а река преширокая; только расположились, идут к нам множество мужиков, вся деревня, валются в ноги, плачут, просят: „Спасите нас! Сегодня к нам подкинули письмо: разбойники хотят к нам приехать, нас всех побить до смерти, а деревню сжечь… У нас, кроме топоров, ничего нет. Здесь воровское место!“ Всю ночь не спали, пули лили, ружья заряжали, и так готовились на драку…
Только что мы отобедали, — в эвтом селе был дом господской, и окна были на большую дорогу, — взглянула я в окно, вижу пыль великую на дороге, видно издалека, что очень много едут и очень скоро бегут… В коляске офицер гвардии, а по телегам солдаты: двадцать четыре человека…»
(Из памятных записок княгини Н. Б. Долгорукой, писанных ею для внуков в печальной старости.) * * *Солдаты еще не подъехали, а Наташа вцепилась в Ивана.
— Не отдам, — кричала, — ты мой… только мой ты! Вошел капитан-поручик Артемий Макшеев, человек хороший и жалостливый. Да что он мог поделать? И, волю царскую объявляя, сам плакал при всех, не стыдясь.
— Буду везти вас и далее, — говорил. — А куда именно повезу — о том сказывать не ведено. Покоритесь мне…
Под утро Наташа улучила миг, когда Макшеев один остался, и протянула к нему в мольбе свои маленькие детские ладони:
— Все я оставила — и честь, и богатство, и сродников знатных. Стражду с мужем опальным, скитаюсь. Причина тому — любовь моя, которой не постыжусь перед целым светом выказать. Для меня он родился, а я для него родилась, и нам жить отдельно не можно…
— Сударыня! — понурился Макшеев. — К чему вы это?
— А к тому, — отвечала Наташа, — что ежели вы честный человек, то скажите, не таясь: куда везти нас приказано?
— На место Меншиковых… в Березов! От города Касимова, что зарос крапивою и лопухами, отплыли уже водой — Окою. Красота-то какая по берегам! Воля вольная, леса душистые, цветы печальные, к воде склоненные. Холмы владимирские, чащобы муромские, говорок волжский… Мимо Нижнего — уже Волгою — на Казань выплыли: пошли места вятские, загорелись во тьме костры чудские, сомкнулись над Камой сосны чердынские… И завелся друг у Наташи — большой серебряный осетр, весь в колючках. Купила она его у бурлаков за копейку, да пожалела варить рыбину. На бечевке так и плыл за нею.
— Плыви, милый, — говорила Наташа, на корме сидючи, — доплывем с тобой до Березова, там я выпущу тебя на волю…
Но солдаты ночью того осетра отвязали и съели:
— Не сердись, боярышня: за Солями Камскими река кончится, и повезем вас телегами через Камень Уральский…
О господи! С камня на камень, с горы на гору, да все под дождем; кожи колясок намокли, каплет. Трясет обоз через Урал, расстается душа с телом. У старой свекрови Прасковьи Юрьевны отнялись руки и ноги, ее по нужде лакеи в лес носили. А каждые сорок верст — станок поставлен в лесу (хижина, без окна, без дверей). Наташа вечером как-то в станок вошла, да в потемках не разглядела матицу — так лбом и врезалась, полегла у порога замертво. Солдаты ее отходили, а потом сказали:
— Эх, боярышня, горда, видать: не любишь ты кланяться!
— То верно, — отвечала Наташа, опамятовавшись, — меня еще тятенька мой, фельдмаршал, учил, чтобы всегда прямо ходила…
Тобольск — пупок сибирский. Стал тут Макшеев прощаться.
— Здесь вам стража худая будет, — горевал капитан. — Они привыкли с катами жить. А на острову Березовом вода кругом, ездят на собаках, избы кедровые, оконца льдяные. И ни фруктажу, ни капустки не родится. Калачика не купить, а сахарок пуд в десть с полтиной, и того не достанешь… Прощайте же!
Поджидал ссыльных на берегу новый чин — в епанче солдатской да гамаши на босую ногу. Назвал себя капитаном Шарыниным, всему имуществу Долгоруких опись учинил. Тут солдаты набежали, будто дикие, стали тащить девок на берег, спрашивали — кто такие? Наташа мучилась — все географию вспоминала, да отшибло ей память, никак было не вспомнить — что за река течет?
— Дяденька, — спросила капитана, — какая река это? Шарынин как заорет на княгиню:
— А тебе для ча знать? Река она секретная, по ней злодеев возим туды, куды Макар телят не гонял… Тебе скажи, как река прозывается, так потом греха не оберешься. Или ты «слова и дела» не слыхивала? Что о реке-то задумалась?.. Плыви вот!
И поплыла Наташа по этой реке — долго плыла и вспомнила:
— Господи, да это ж — Иртыш-река, а затем Обью потечемся…
Шарынин-капитан отозвал ее однажды в сторонку.
— Книги-то, — спросил, — какие-либо имеешь ли?
— Нет, сударь, все книги на Москве остались.
— Но в лучше, — шепнул капитан. — У меня тоже была книжка одна. Про святых разных и чудеса ихние… Так я не стал беды ждать: до первой печки донес и сжег, чтобы никто не видел!
— Зачем же? — спросила Наташа, смеясь.
— А так уж… — приосанился капитан, берега оглядывая. — Ныне и без книг время гиблое. Бойся, молодица, слова устного, но трепещи слова писаного…