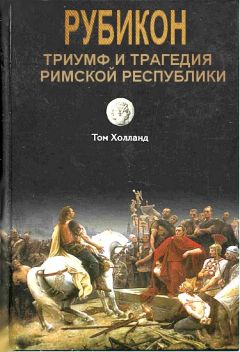Том Холланд - Рубикон. Триумф и трагедия Римской республики
Впрочем, одно только женоненавистничество, при всей своей дикости и безжалостности, не способно полностью объяснить те ядовитые обвинения, которые были выдвинуты против такой хозяйки салона, какой являлась Клодия. У женщин не было другого выбора, кроме, как распространять свое влияние за сценой, украдкой, соблазнением и провокацией, заставляя мужчин подчиняться себе. Моралисты быстро объявили это проявлением женского мира чувственности и сплетен. К свирепым нюансам мира мужских амбиций присоединилась новая сложность. И качества, которые требовались для преодоления этой ситуации, принадлежали именно к тем, что особенно презирались в республике. Цицерон, не принадлежавший к числу «животных», составлявших партию естественной жизни, перечислил их с избытком подробностей: это склонность к «чревоугодию и пьянству», «любовным интригам», «ночному бодрствованию под громкую музыку», «долгому сну» и «расходованию денег на грани разорения».[144] Окончательную и бесповоротную степень нравственного падения отмечало умение хорошо танцевать. С точки зрения традиционалистов, более скандального действа просто не могло существовать. Город, культивировавший танцевальную культуру, находился на краю гибели. Цицерон мог с совершенно серьезной миной утверждать, что именно она послужила причиной падения Греции. «Тогда, в старину, — громыхал он, — греки имели в своем обычае подобные вещи. Однако они осознали потенциальную опасность этой погибели, того, как она постепенно заражает умы сограждан погибельными идеями и маниями, а потом сразу приводит к полному падению города».[145] Согласно процитированному диагнозу, Рим действительно находился в опасности. С точки зрения пирующих, признаком весело проведенной ночи на зависть всему городу было напиться до умопомрачения, а затем под аккомпанемент «криков и воплей, визга девиц и оглушительной музыки[146]» раздеться донага и станцевать на столе.
Римские политики всегда подразделялись скорее по стилю, чем по содержанию политики. Растущая экстравагантность римских пиршеств послужила еще большему разделению партий. Предельную сложность для традиционалистов создавал тот факт, что многие из деятелей, служивших им нравственными эталонами, сами поддались создаваемым роскошью искушениям: такие люди, как Лукулл и Гортензий, не могли позволить себе с укоризной погрозить пальцем кому бы то ни было. Впрочем, была еще жива исконная республиканская бережливость. Более того, модные излишества сделали ее в глазах нового поколения сенаторов только более привлекательной. Даже купавшийся в золоте Сенат инстинктивно оставался консервативным органом, ничуть не стремившимся увидеть свое собственное отражение, предпочитая воображать себя образцом праведности. И политики, способные убедить своих собратьев по Сенату в том, что это нельзя считать простой фантазией, могли повысить свой престиж. Строгость и суровость продолжали оправдывать себя.
Трудно объяснить удивительный авторитет человека, который в середине 60-х годов до Р.Х. едва перевалил на четвертый десяток и не занимал еще должностей, старше квесторской. В возрасте, когда большинство сенаторов с молчаливым почтением прислушивались к речам старших, голос Марка Порция Катона уже вовсю раздавался в помещении Сената. Бесхитростные и неприукрашенные слова его словно бы доносились из столь же простых и добродетельных времен ранней Республики. Будучи офицером, Катон «разделял все обязанности, которые возлагал на своих людей. Он одевался так же, как и они, ел то, что ели они, и маршировал вместе с ними».[147] В качестве гражданского лица он сделал модным презрение к моде: одевался в черное, поскольку любители пиров все как один расхаживали в пурпуре, и повсюду, будь то жара или ледяной дождь, являл полное презрение ко всем формам роскоши, иногда даже не потрудясь надеть на ноги башмаки. Если в таком поведении не было и доли показной скромности, значит, оно выражало глубину нравственной целеустремленности, неподкупности и внутренней силы, которые римляне по-прежнему стремились отождествлять с собой, и тем не менее примиряясь с тем, что подобные качества все более переходили в область исторической литературы. Для Катона, однако, наследие прошлого обладало бесконечной святостью. Долг перед согражданами и служение им означали все. Катон решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах лишь после того, как во всех подробностях изучил обязанности квестора. А исполнял он их с такой неподкупностью и усердием, что, по словам современников, «сделал квесторский сан столь же достойным чести, как консульский».[148] Мучимый ощущением своего падения, Сенат тем не менее не успел еще развратиться настолько, чтобы не оценить такого человека.
Гранды предшествовавшего поколения, в частности, находили в Катоне источник вдохновения. Они спешили увидеть в нем будущее Республики. Лукулл, например, уже стремившийся передать свой факел преемнику, отпраздновал собственный развод свадьбой со сводной сестрой Катона. Его новая жена отличалась от прежней лишь тем, что любовные интрижки ее не носили инцестуозного характера, однако несчастный Лукулл, вновь связавшийся с любительницей пирушек, из уважения к Катону терпел ее. Это отнюдь не означало того, что Катон готов был предоставить какие-либо особые милости своему зятю, — напротив, если бы Катон решил, что речь идет о благе Республики, он охотно предал бы суду друзей Лукулла, как, впрочем и всякого, кому, с его точки зрения, был бы полезен урок добродетели. Иногда он даже заходил настолько далеко, что читал Лукуллу морали. Катон не был готов к тому участию в интригах, которое было естественным для всех окружающих, являя тем самым негибкость, часто озадачивавшую и бесившую его союзников. Цицерон, искренне восхищавшийся Катоном, тем не менее был недоволен тем, что «он обращается к Сенату так, словно живет в Республике Платона, а не в Ромуловом сортире».[149] Подобная критика серьезным образом недооценивала политические перспективы Катона. И в самом деле, карьера его во многом являла собой полярную противоположность деятельности Цицерона, построившего всю свою карьеру на поисках компромиссов. Катона не волновали веяния чьих-либо принципов, кроме своих собственных. Черпая силу в самых строгих традициях Республики, он превратил себя в живой укор распущенности своего времени.
Излюбленная тактика Катона по отношению к врагам заключалась в сравнении: на фоне его импозантного облика они казались еще более злобными и женственными. Охота за женщинами и беспробудное пьянство не воспринимались римлянами как признак мужской доблести, скорее напротив. Гладиаторам в предшествовавшую выступлению неделю приходилось протыкать железом крайнюю плоть, чтобы избежать соблазна, однако граждане должны были полагаться на самоконтроль. Подчинившийся чувственности переставал быть мужчиной. И если доминировавших на манер Клодии женщин можно уподобить вампирам, «высасывавшим»[150] желания подчинившихся их чарам мужчин, то подобных Клодию представителей золотой молодежи воспринимали как стоящих даже ниже женщин. Одно и то же обвинение звучало снова и снова.
Все эти обвинения отражали глубоко укоренившиеся предрассудки, а в новых веяниях было нечто волнующее и пикантное. Ни один римлянин не стал бы утруждать себя ударом по не внушающему страх врагу. Признаки женственности говорили также о ловкости, превосходстве, умении выходить из трудного положения. Мода всегда служила своей единственной функции: выделению следующих ей из общего стада. В столь соревновательном обществе, каким была Республика, мода привлекала к себе явным и очевидным образом. Рим был полон честолюбивых молодых людей, отчаянно мечтавших о каком-либо знаке общественного положения. Быть членом фешенебельного общества значило добиваться таких знаков. Поэтому именно жертвы моды изобретали тайные сигналы и таинственные жесты, такие, например, как почесывание головы одним пальцем. Они отращивали козлиные бородки; их туники спускались до лодыжек и запястий; тоги их текстурой и прозрачностью напоминали вуали, причем носили их, следуя часто повторявшейся фразе «фривольно подпоясанными».[151]
Конечно, именно так одевался Юлий Цезарь в предыдущее десятилетие. Факт этот свидетельствует о многом. В 60-х, как и в 70-х годах он продолжал блистать в качестве законодателя римской моды. Он тратил деньги так же, как носил тогу, — беспечно и броско. Наибольшим шиком в его исполнении сделался заказ на постройку виллы в сельской местности, которая была построена и немедленно разрушена, поскольку, как оказалось, не соответствовала в точности его стандартам. Подобные экстравагантности заставляли многих соперников презирать его. Однако Цезарь рисковал и делал свою ставку в крупной игре. Быть любимцем светского общества нелегко. Риск, конечно же, заключался в том, что подобное поведение могло закончиться крахом — не только финансовым, но и политическим. Впрочем, самые смышленые из его врагов сумели заметить, что Цезарь не позволял светским развлечениям подействовать на свое здоровье. Ел он столь же немного, как и Катон, выпивал редко. И хотя его сексуальные аппетиты были скандально известны, постоянных партнерш он подбирал с холодной и пытливой осторожностью. Жена его, Корнелия, умерла в 69 году до Р.Х., и Цезарь, подыскивая новую невесту, остановил свой взгляд не на ком-нибудь, а на Помпее, внучке Суллы. Всю свою карьеру он выказывал понимание необходимости хорошей разведки, о чем свидетельствует выбор не только жены, но и любовниц. Великой любовью в жизни его была Сервилия — по случайному совпадению оказавшаяся сводной сестрой Катона, а потому родственницей Лукулла и впридачу — кузиной Катула. Кто знает, какие семейные секреты поверяла Сервилия на ухо своему любовнику?