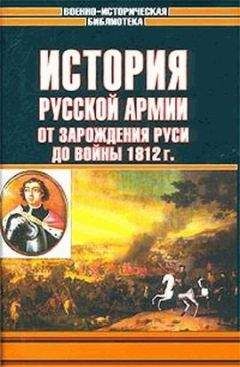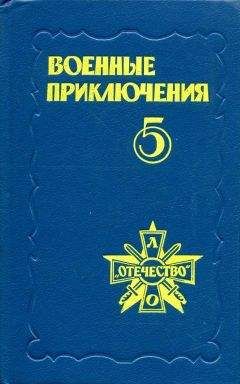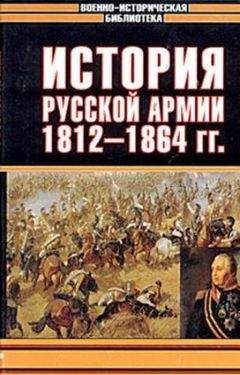Форт Далангез - Беспалова Татьяна Олеговна
Я, попав в их дом, сразу же понял, что главной в их семье является старуха. Отдавала она меня вот как… Муж её — усатый сгорбленный старик — взял меня за руку и отвёл на единственную деревенскую площадь. Шагая рядом со стариком, я оглядел окрестные хмурые горы, с которых дует пронизывающий ветер. В то время снега ещё не было, но я смекнул, что если он выпадет, то зима скорее всего окажется не менее суровой, чем где-нибудь в центральной России. Однако старик привёл меня на площадь не за тем, чтобы я любовался горами. На деревенской площади на высоком, специально построенном для этого помосте огромный сильный свирепого вида длинноусый турок срубил кривым ятаганом голову русскому солдату. Я хорошо запомнил, как бородатая та голова упала с помоста на подмёрзшую землю и как присутствующие на площади турки посмеиваясь принялись пинать её башмаками. "Это мой старший сын — Касапаглу-бей. Теперь он твой хозяин", — проговорил старик, указывая на свирепого турка с огромным окровавленным палашом. Я заплакал, но старик остался равнодушен к моим слезам, а посоветовал только молиться Аллаху, и я последовал его совету.
Касапаглу-бей — это такой воинский начальник, командующий большим кавалерийским отрядом турок. Турки эти — свирепые усатые и бородатые воины с ружьями, при саблях на хороших и злых конях. По-нашему Касапаглу-бея называли бы сотником. И вот я стал его домашней прислугой. Делал всякую работу — то коня ему почисти, то воды принеси. Бегал и по поручениям. Вместе с его сыновьями ходил в мечеть. Ел с хозяйского стола ту же пищу, что и дети, и жены Касапаглу-бея. Через некоторое время я перестал бояться наказания или смерти отсечением головы. Перестал думать о том, как турки станут смеяться и пинать мою голову ногами.
Касапаглу-бей часто выспрашивал меня о повадках и обычаях русских, и я честно отвечал ему, дескать, в русском войске много терских казаков-староверов, которые истово чтут все церковные праздники и несоблюдение обычаев православия считают предательством веры. В праздник Рождества Христова, почитаемый наравне с православной Пасхой, ни один казак воевать не станет. Моим словам верили, ведь сам я показывал себя человеком правоверным, преданным заповедям Магомедовым…
Так провёл я время с ноября месяца по сей день в полной уверенности, что задачу свою выполнил верно, ведь турки нападения нашей армии не ждали. Касапаглу-бей покинул своё село незадолго до нового года и в страшном волнении. Часть его сотни также была рассеяна по окрестным сёлам — всадников отпустили к семьям для отдыха. Пробирались к Эрзеру-му по глубоким снегам и едва не перемёрзли. В пути Касапаглу-бей посматривал на меня косо и обзывал "глупцом" и "горе-провидцем", но слова "предатель" или "лгун" он ни разу не произнёс.
По прибытии в Эрзерум Касапаглу-бей получил распоряжение от своего начальника о занятии боевых позиций. Позабыл сказать! У моего хозяина было двое взрослых сыновей. В возрасте шестнадцати и семнадцати лет эти люди достаточно владеют воинским искусством, чтобы служить в строевых частях. Так вот, Касапаглу-бей отправлялся на позиции вместе со всей своей сотней и обоими сыновьями. Я слышал, как перед отбытием рассуждали они обо мне: брать или не брать с собой на передовую. Из разговоров я заключил: полного доверия ко мне нет, и потому я остаюсь в тылу, то есть в Эрзеруме. В силу моей набожности и, как предполагал Касапаглу-бей, особенно выдающейся глупости, меня определили в одну из местных мечетей слугой для присмотра за печами. Мулла, достаточно воинственный, сильный и нестарый ещё человек, готовый в случае надобности сам взяться за оружие, присматривал за мной. Я боялся, что ко мне применят один из способов усмирения. Например, сломают или отнимут ногу. Но обошлось без этого. Мулла был слишком занят убитыми и ранеными, которые стали поступать с фронта. Турецкие строевые части несли большие потери, потому-то я и понял: победа близка. Тогда я затаился и стал ждать, неукоснительно выполняя все распоряжения муллы. Мне приходилось и ухаживать за ранеными турецкими офицерами, и хоронить умерших от ран. Но я не предал. В моей работе не было предательства…
Закончив свою речь, Галлиула ухватился обеими руками за полупустой стакан с чаем. "Я не предавал. Не предавал!" — твердит он, вздрагивая.
— Водки ему, — говорит кто-то.
— Мусульманам пить вера не разрешает, — возражают ему.
— Ах, оставьте! В Первопрестольной часть извозчиков и все дворники — татары. Никогда не видел ни одного из них трезвым.
— Водки ему! Водки!
Все загомонили разом, а Галлиула разрыдался самым трогательным образом. Я, грешный, также украдкой трогал намокшие усы. Явился Лебедев с чистой крахмальной салфеткой отбеленного льна и подал мне её. Зачем? Впрочем, прикосновение шершавой ткани к разгорячённому и влажному лицу принесло мне облегчение. А спорящие так увлеклись друг другом, что совершенно позабыли и о Галлиуле, и даже обо мне. Откуда ни возьмись явился Мейер с зажженной самокруткой в руке. Запахло сладковатым дымком. Ни слова не говоря, этот благотворитель сунул самокрутку в рот растерянному татарчонку.
— Две затяжки — и будет с тебя, — проговорил отважный пилот.
Вдохнув немного дыма, Галлиула действительно немного успокоился и попросил у Лебедева ещё чаю.
— Ещё один тайный курильщик, — проворчал тот, но чаю налил.
— Вы не расспрашивайте его больше, — проговорил Мейер самым приватным тоном, так что слышать его могли только я и Лебедев. — При нашем приближении к Эрзеруму он убил турецкого муллу. Теперь страдает бедняга, распятый меж верностью родине и верностью вере.
— Как так? — удивлённый Лебедев едва не выронил поднос со снедью.
— Местный мулла оказался весьма воинственным типом. Пока вы тут чайком баловались, подъесаулы Зимин и Медведев со своими людьми оббегали всю площадь, дабы обеспечить полную безопасность штаба армии. И что вы думаете? В подвале мечети обнаружен целый арсенал.
— Это, конечно, большое упущение с нашей стороны. На целую дивизию — один мулла, — вздохнул я и, адресуясь к Галлиуле, добавил: — Ты ступай, милый. Нам тут с господами офицерами надо нашими штабными делами заниматься. Лебедев, ты распорядись, чтобы Галлиулу в его же часть отправили.
— Никак невозможно, ваше высокопревосходительство. Полк Пирумова… — Лебедев умолк, самого себя оборвав на полуслове.
— Да! Даниил-бек… как они?
— Пирумов жив, — быстро ответил Масловский.
Лебедев благоразумно молчал. А мне сердце защемило от воспоминаний.
— А что, поручик, — обратился я к Мейеру, — ваша вылазка на форт Далангез с Зиминым и Медведевым?..
— Так точно, ваше высокопревосходительство! Мы готовы! — Мейер щелкнул каблуками.
Эх, плохо у него это получается — щёлкать каблуками. Вот стоит он передо мной, генералом, вроде бы навытяжку и честь пытается отдать, а на деле выходит у него одна только несуразность, словно он не старшему офицеру докладывает, а перед обывателями, которые никогда в жизни аэроплана не видели, красуется.
— Ах, да!.. — Мейер тушуется, смотрит на меня с несколько наигранным сочувствием и в то же время изучающе, дескать, насколько велика моя скорбь по утраченному "племяннику"?
Я поднимаюсь на ноги, кладу правую руку зазнайке на плечо. Тяжело кладу, с нажимом. Он повыше меня ростом, и мне очень хорошо видно, как подрагивают его красивые губы. И не только губы, весь он слишком красивый, точёный, лепый, логичный. Нет в нём нашей, русской, иррациональности. Отличительная эта особенность питает его и без того значительную гордыню.
— Я — русский, — внезапно произносит Мейер. — Я хочу быть русским.
— Привези Адама сюда. Чудак мечтал о награде, и он её получит. Пусть посмертно, но получит.
— Это очень по-русски — награждать посмертно, — произносит Мейер.
— Подвиги совершают лишь те, кто верит в жизнь вечную, — отвечаю я, отпуская его плечо.