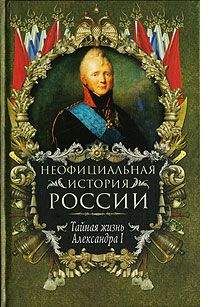Вольдемар Балязин - За полвека до Бородина
Ломоносову было подтверждено сказанное прежде Иваном Ивановичем, что новая школа должна объединить в своих стенах инженеров и артиллеристов и дать н тем и другим то, чего ранее они были лишены, — бомбардиры должны овладеть секретами фортификации, а «розмыслы и хитрецы», как называли в старой России инженеров, должны стать изрядными артиллеристами.
Особенно же просил генерал — фельдцейхмейстер поразмыслить над тем, каким наукам следует обучать кадетов в новой школе.
Михаила Васильевич перечел все, чему их учили ныне, — от механики до рисования и тотчас же уловил изрядный пробел: в программе не было иностранных языков, истории и географии, а из прикладных наук, как уже указывал на то генерал–фельдцейхмейстер, не было артиллерии и фейерверочного искусства, до которого к тому же была великою охотницей государыня императрица, что и из соображений дипломатических следовало учесть всенепременно: все же, подписывая указ об учреждении новой школы, государыня более прочих материй почтет фейерверочное художество полезнейшим и, глядишь, отвалит на содержание школы лишнюю тысячу червонцев.
Михаил Васильевич, перед тем как начать писать, по обыкновению, чуть сощурился и стал прежде всего набрасывать пункты, в коих обосновывал полезность двух основных языков — французского и немецкого.
«Обучать в языках — французского и немецкого, — начал набрасывать он проект, — ибо без оных множество способов отнимется артиллеристу и инженеру получить надлежащее совершенство в знании. Артиллеристу не будет известен Блондель и Робенс, а инженеру — Штурм и Герборт. Если б кто имел охоту к вышней математике, где он найдет Вольфа, Эйлера, Бернулия, Рено, Озанома, Крузаца и Опиталя; буде же захочет учиться архитектуры гражданской — Витруви, Скамоци и Винола ему в том наставлении подать не могут. И, наконец, в военной науке, нужнейшей для офицера, не может он прибегнуть, не зная чужестранных языков, к Ксенофонту, Цезарю, Вигецию, Монтикуколи, Тюренну, Фениеру, Писегюрю и Кри–сие».
Написав имя греческого историка Ксенофонта, он подумал о том, что следует добавить и других авторов исторических сочинений, но, поразмыслив, решил, что их назовет в другом разделе плана, посвященном специально истории и географии.
Окончив писать этот раздел, он принялся за новый, отбирая такие сюжеты и эпизоды, какие могли бы убедить графа Петра Ивановича в вящей пользе сих наук, дотоле читавшихся лишь в университете и двух шля–хетных корпусах.
Начал он писать засветло, а когда окончил, то свеча уже наполовину сгорела. Ломоносов перечел написанное, кое–что поправил и ушел из–за бюро, довольный тем, что сделал.
На следующий день он был уже во дворце своего знатного заказчика.
Лакей провел его в спальню графа. Шувалов полулежал на канапе в бухарском халате, в белой чалме на голове.
— Извини меня, Михаила Васильевич, за бусурман–ский обычай мой, видит бог, нездоров я ныне и даже докладывать ни о ком не велел, а тем паче принимать, но тебя, конечно же, не принять не мог.
Ломоносов молча поклонился.
Он знал, что белая чалма, смоченная изнутри ароматизированным уксусом, надевается, как правило, после знатного придворного куртага с изрядным возлиянием.
Да и без того было заметно, что граф не спал всю ночь и, конечно же, читать проект самому ему, разумеется, не захочется.
— Я знаю, Михаила Васильевич, что по зряшному делу ты не приедешь, — проговорил Шувалов с извинительными нотками в голосе, — и потому готов тебя немедля выслушать. — Он переменил положение тела на диванчике и сел, молча ожидая, что скажет ему посетитель.
— А вот, извольте, ваше сиятельство, послушать, — проговорил Ломоносов и достал из папки пачку листков. Затем он сощурился и, сильно отставив листки, начал читать: — «Пункт осьмой плана о учреждении корпуса: «Каким наукам кадеты обучаться имеют». Кроме тех наук, какие ныне к обучению кадет предписаны, имеют они обучаться французскому, немецкому языку, истории и географии политической. Знание истории и географии политической нужно всякому, а необходимо дворянину, к военной службе приуготовляющемуся. История, открыв завесу древности, представит великих героев и полководцев, там увидит он лакедемонянина, противляющегося с малым числом людей безчисленной Ксерсовой силе, представится ему мудрое и осторожное предводительство Ксенофонтово, увидит Александра, с малым числом великие войска гонящего.
Разбирая характер Сарданапалов, будет гнушаться юноша роскошному и сластолюбивому житию, а удивляясь мужеству Леонидову, станет завидовать ему, и мысли юноши к подражанию Леониду склоняться будут. Увидит Курция, за отечество умирающего, и сердцем к нему прилепится, а Катилину, стремящегося отечество погубить, конечно же, возненавидит.
Итак, история больше в сердце молодого человека добродетелей вливает, нежели наистрожайшее нравоучение, а сколько подает военнослужащему пользы, того и описать неможно».
Ломоносов замолчал и поглядел на Шувалова. Он увидал в глазах Шувалова живой интерес и понял, что граф внимательно слушал его.
— Идея твоя, Михаила Васильевич, хороша, да, чую я, надобно ее с самого начала обезопасить: не дать глупцам да начетчикам сделать из истории псалтирь, кою читают, не понимая, и затверживают без всякого разумения. А то ведь, как у нас в иных училищах бывало — твердят наизусть годы, имена да достопамятные приключения: сколько от сотворения мира до потопа лет, да в которой Олимпиаде родился Александр Великой, да сколь было в первом веке цесарей, и как каждого из них звали. От такого порядка пользы ожидать неможно.
— Запишу и это, граф Петр Иванович. Да еще запишу и о пользе для юношей географии политической, ибо она, научая молодого человека разделению земель, взаимному их положению, показывая границы, корабельные пристанища, реки, озера и прочее, не позволяет сумневаться, что знание сего офицеру нужно.
— И это дельно, — согласился Шувалов. — А что у тебя еще?
Ломоносов стал читать о пользе обучения языкам немецкому и французскому.
Он заметил, как Шувалов и вконец распрямился, а потом и встал с канапе. И это примирило Ломоносова с чванливым вельможей, позволившим себе принять профессора в чалме и халате; теперь он видел, что этот человек искренне чтит его труд. И Ломоносову почему–то подумалось: «А сколько раз кивали мне головами в напудренных париках сонные болваны, в мундиры облаченные? А понимали ли они хотя малую толику того, что понял он?» И от этого стало ему легче, ибо превыше всего ценил он труд и в среде сановников отличал лишь тех немногих, кои понимали цену ему.
Закончив чтение, он решил добавить и еще кое–что, о чем думал не раз, но на бумагу не заносил.
— Хочу, ваше сиятельство, просить соизволения вашего и еще на два предмета. Первый — возродить добрый обычай читать кадетам лекции. Покойный Виллим Иванович Геннин частенько профессоров из академии в школу к себе приглашал, и я сам не раз кадетам о различных материях трактовал. Особливо же о тех, кои к военному делу тесное имеют касательство.
— И это, Михаила Васильевич, дельно, — согласился Шувалов.
— А еще один предмет вроде бы к науке не относится, и размышлять, а паче того писать о нем, вами мне велено не было, но дерзну все же и о нем сказать.
Негоже, мнится мне, будущих офицеров штрафовать телесными экзекуциями, либо какие иные расправы чинить, кои их человеческое достоинство нарушают.
Я понимаю, что воинский порядок на повиновении и послушании строится, и потому почитаю справедливым, когда за нарушение дисциплины кадета отдают на гауптвахту, либо не пускают со двора, даже и в праздники, а офицера штрафуют домашним арестом, понимаю и справедливость того, когда за лень, разгильдяйство и паче того воровство отсылают недорослей солдатами в фузилерные полки.
Но никогда не соглашусь я с тем, что будущего офицера и прирожденного дворянина бьют розгами или фухтелями, а то и наряжают в скоморошье платье и он ходит в наряде шута целыми неделями.
(Ломоносов, как и всегда, когда заходила речь об обидах и несправедливостях, распрямился и, сам того не желая, потерял над собою контроль.)
Да и не только дворян все сие касается. А чем хуже благородного недоросля мещанский или солдатский сын, в учение отданный? Почему и его бессмысленно и противно натуре человеческой истязать можно?
Ломоносов не заметил, что его человеколюбивые рассуждения граф слушает совсем не так доброжелательно, как прежние. Последняя тирада, видно было, и совершенно пришлась не по душе графу. Сначала лицо его стало скучным, потом он и вовсе отвернулся к окну, выражая тем самым безразличие к словам Ломоносова.
Михаил Васильевич замолчал: он терпеть не мог говорить что–либо в чью угодно спину — будь то хотя и сама императрица.