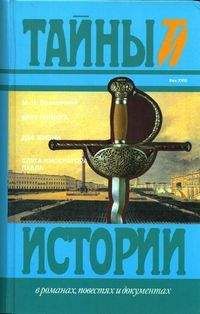Павел Загребельный - Я, Богдан (Исповедь во славе)
Слепой случай помог, что именно мне достался сын Тугай-бея, и теперь этот быстроглазый татарчонок невольно стал той счастливой силой, которая стерла черную и кровавую межу, разделявшую нас бессмысленно и враждебно и которую ничем невозможно было сгладить, кроме доверия и любви. Всю жизнь убегаем мы от ненависти и вражды, а находим ненависть еще большую. Переходим через мосты, и все проходит через мосты, а зло остается. Я ступил на землю, которая была извечным злом для моего народа, первым замахнулся на неосуществимое, пытаясь покончить с враждой, спасения от которой нет даже после смерти. Вот уже прозвучало слово "брат", но это еще только между двумя мужчинами, старыми, как мост, который мы только что перешли. Мост можно перейти, у него есть конец, а человеку не видно конца своей жизни, и тот, кто сегодня становится твоим братом, завтра может снова стать врагом. Потому что человеку нужна прочность. Прочность - только в народе. Когда два народа говорят друг другу "брат", то это уже надолго, на века. Не безумство ли стремиться к братанию с этим непонятным народом, спрятанным за морем на куске сухой, раскаленной солнцем земли, с народом, который не верит никому, где даже степи заполнены враждебностью и подозрительностью? Тугай-бей сказал мне "брат". Я ответил ему тем же. И на Сечи среди казаков есть татары. Не умеют перекреститься - их учат. В какого бога веруют - никто не спрашивает: у казака бог - счастье и доля, мужество и отвага. Бывало, что казаки просили помощи у крымчаков. Бывало, что и сами приходили в Крым не только с войной, но и с помощью. Михайло Дорошенко погиб под Бахчисараем, приведя казаков на помощь Гиреям, которые воевали тогда с буджакскими Кантемирами. Но что случай, когда перед тобою - судьба целого народа! Оглядываться назад, заглядывать наперед, связывать то, что было, с тем, что будет, увлекаться и мудрствовать над событиями или по поводу их - все это оставим летописцам с холодной памятью, мы же пришли, чтобы соединить эти разъединенные несправедливо и бессмысленно миры. И уже теперь ты сам идешь рядом с событиями, вместе с ними растешь, замираешь, останавливаешься, и никаких чувств, ибо ты сам - сплошное чувство, и ни страха, ни опасения, ни надежд, ибо ты сам - страх, предостережение и надежда.
Не может быть доверия выше, чем тогда, когда два враждебных вооруженных всадника соскакивают с коней. И вот мы с Тугай-беем спешились. Ступили друг другу навстречу и обнялись. Оба старые, как мост позади. А рядом стояли наши сыновья, будто мост между нами, улыбались, весело покачивая головой, почти по-братски.
Тугай-бею подвели коня в дар. Вороной жеребец, уздечка в серебре и бирюзе, стремена серебряные, седло с коваными серебряными луками. Для хана у нас был золотистый Карабах с убором золотым, для преданнейшего ханского мурзы - серебро, чистое, как сердца, с которыми шли к этим людям.
В крепости все поражало какой-то неустроенностью, временностью, запущенностью. Лишь несколько низеньких татарских халуп под черепицей, а большинство - землянки или шатры из конских шкур. Дымят костры, суетятся приземистые фигуры в грязных, вывернутых наизнанку кожухах, кто-то что-то продает, кто-то покупает, один тянет коня, другой барана на убой. Правду говорил Тимко о здешнем убожестве. Чуть большая из этих халуп была пристанищем Тугай-бея. Внешне не отличалась ничем от остальных, но внутри вся была устлана толстыми коврами, от двух медных, до блеска начищенных жаровен шло блаженное тепло, низенькие шестигранные столики были уставлены серебряной и медной, так же, как и жаровни, до блеска начищенной посудой, по помещению метались молодые татарчонки, нося на больших медных и серебряных подносах целые горы вареного мяса, сладости, кувшины с напитками. Носили неизвестно откуда, будто из-под земли.
- Жаловался на убожество, - промолвил я Тимошу вполголоса, - а тут вишь какая роскошь.
- Какая там роскошь: ковры ведь прямо на землю бросают!
- Хотел, чтобы тут была хата на помосте?
- Хотя бы земляной пол сделали да глиной помазали. Глины вон сколько вокруг!
Человек тоже из глины. И Тугай-бей из глины. Сидел напротив меня на подушках, пожелтевший, жилистый, вывяленный ветрами и солнцем, слушал мою речь, не прерывал, лишь когда я умолкал, он бросал два-три слова и снова прищуренно слушал, думая свою думу, и тогда был будто его крепость, будто вал и ров - неприступный и непостижимый, таинственный, как весь их Крым. Оставь глаза и уши по эту сторону Op-копу, вступая в пределы ханства.
- Я поведу тебя к хану, храбрый муж Хмельницкий, - наконец сказал мурза. - Когда приходит к нам такой знаменитый вождь днепровского казачества, великий хан должен его видеть.
- Будем считать меня послом, - сказал я.
- Нет, ты - великий вождь и лев, славный добрым именем своим! - упрямо повторил Тугай-бей.
Но я тоже не хотел уступать и твердил, что только посол, Кривонос даже расхохотался, слушая этот наш спор:
- Никто и не поймет никогда: то ли послы от Хмельницкого, то ли Хмельницкий сам посол!
И снова перемеривали мы хмурую равнину под понурым небом, и снова вокруг нас была то ли зима, то ли весна, ничего определенного, как и наша доля и наши надежды, свист ветра, вой то ли волчий, то ли собачий.
- Далеко еще? - допытывались у меня казаки, а я и сам не знал: казалось иногда, что будем ехать вот так до конца своей жизни, будем взбираться на холмы, перебредать речки, проезжать мимо татарских ватаг, одиноких всадников, двухколесных повозок, запряженных верблюдами, а потом снова пустыня и пустыня, от которой больно сжимается сердце. Далеко спрятался хан татарский! Далеко и глубоко!
Бахчисарай и не появился, и не возник, а просто оказался под копытами наших коней: равнина закончилась, провалилась глубоким и узким ущельем, а в этом ущелье прилепилась ханская столица, дворец среди садов, как читалось татарское слово "Бахчисарай".
Над долиной торчали шпили минаретов, главная улица столицы тянулась вдоль ущелья по-над берегом мутного ручья - Чуруксу, на всей этой улице, кажется, единым тихим местом был ханский дворец, а так все гремело и звенело, гомон людской, ржанье коней, лай собак, звяканье медников, крики торговцев, запахи вареной баранины, сладостей, темный дым из бузных куреней и кофеен, - не было здесь ничего от голодного и дикого духа орды в походе, скорее похоже было на маленький Стамбул, во всяком случае на один из его участков, потому что для Стамбула здесь не хватало величия, моря и вечности.
Такое скопление гяуров в столице никто не хотел держать, поэтому нам пришлось искать пристанище в предместье Салачик, где нас принял купец-армянин. Тугай-бей велел мне терпеливо ждать, обещая свое заступничество перед ханом и содействие во всем.
Тяжкое сидение у подножия чужого трона. Я привез с собой заблаговременно составленные письма к хану Ислам-Гирею и его великому визирю Сефер-аге, теперь передал эти письма с привезенными подарками. Из ханского двора шли к нам целой вереницей уланы и капихалки вроде бы для знакомства или для того, чтобы просто посмотреть на казаков, но на самом деле каждый добивался подарков, и наши вьюки угрожающе опустошались, и Демко только всплескивал руками, встречая и провожая ненасытную ханскую придворную саранчу.
- Батько! - кричал он возмущенно. - Ну, где это видано! Вчера приезжают разом два мурзы. Один в кожухе, вывернутом наизнанку, другой в мусульбасе, подшитом баранами. И впрямь мурзы, такие замурзанные, будто никогда не умывались, а сами требуют соболиных ферязей и коней с рондами! Я им говорю: нет. А они мне: если нет подарков, мы запираем послов на Мангупской горе и бьем, как собак! Можем, говорят, далеко и не везти, здесь вот, в Чуфут-кале, есть у нас пещера Чаушин-кобаси, куда тоже бросаем гяуров, пока не пришлют за них выкупа. Нет соболей, зачем ехали в Бахчисарай? Ну и ордынцы! Я уже тут расспрашиваю, какие же для них "упоминки" более всего по вкусу. И что же я узнал? Говорят так. Для хана золотые или янтарные шкатулки с самоцветами, мешки с червонцами, соболя и куницы, цветные шубы из других мехов, дорогие кафтаны, шапки и сапоги, шитые золотом седла, шелк, бархат, золотые часы, оружие в золоте и самоцветах. И это так: для хана, его братьев и сыновей, для его жен и дочерей, а потом для визиря, для мурз, беев, чертей-дьяволов, а потом для всей остальной саранчи. Да откуда же возьмется у нас все это добро?
- Держись, Демко, - успокаивал я его. - Раздавай, да не все, потому что еще пригодится.
- Да уж вижу. Одна орда к нам на Украину бегает, а другая, еще большая, засела здесь в ханском дворце и то ли благоденствует, то ли рот разевает - и не поймешь!
Был мой Демко нетерпеливым, как все молодые казаки, да и сам я тогда был, может, еще нетерпеливее, а что должен был делать? Переговоры - вещь всегда хлопотная, теперь же предстояли переговоры, каких никто никогда не слышал и не видел. Извечные враги должны были соединиться чуть ли не по-братски! Нужно ли было удивляться той настороженной неторопливости, с которой ханские придворные присматривались и, можно сказать, принюхивались к нам. И это при том, что где-то мой надежный (хотелось так думать!) побратим Тугай-бей воевал за меня перед всеми, доходя до самого хана.