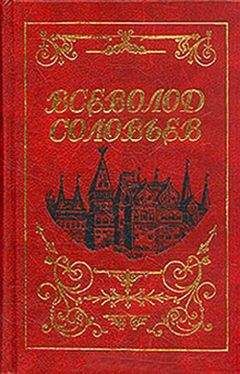Всеволод Соловьев - Царское посольство
— Изведет? — воскликнула она. — Как же вы мне тогда же не сказали?
— По какому бы праву стал я передавать вам такие вещи?
— Право!.. По какому праву! Santa Maria… оставьте это… ну, да, вы видите, вы знаете… и я не хочу скрываться… Я люблю синьора Александра… да, люблю его, слышите ли вы это! Так не томите же меня… говорите все, что знаете!
Хотя ничего неожиданного не было для аббата в признании синьоры, но все же то, что она так прямо решилась говорить об этом, его озадачило. «Значит, это не шутка, не простой каприз… она так полна страстью, что не находит даже нужным скрываться… А, впрочем… ведь московит скоро уедет, и после такого признания она невольно станет ко мне ближе… бездна между нею и мной с этой минуты перестанет существовать… мостик через эту бездну построен, готов… это хорошо!»
— Конечно, я скажу вам, синьора, все, что знаю, — опуская глаза, произнес он, — я знаю, что вчера, после спектакля, Нино отправился к Луиджи Пекки, а сегодня, когда синьор Александр выходил отсюда и садился в гондолу, я видел, как один замаскированный человек указал его другому. Нино указал его Пекки — я уверен в этом, я сразу же узнал их обоих.
Бедная Анжиолетта вся похолодела.
— Боже мой, Боже, что же нам делать?
Она заломила руки, подняла глаза к нему — и стала до того прелестной, что Панчетти не мог выдержать и совсем наклонил голову, лишь бы не видеть ее.
— Но вы-то, вы! Вы такой же враг мне, как Нино, вы еще хуже его! — задыхаясь, говорила синьора, начиная, как безумная, метаться по гостиной. — Ведь если бы тогда же вы мне сказали… я бы успела написать, предупредить… инквизиция в мгновение послала бы сбиров… они схватили бы Пекки и Нино… А теперь… теперь, быть может, уже поздно!.. Бегите… вот… я напишу…
Она кинулась к столу, трепетными руками искала бумагу, чернильницу, перо.
— Успокойтесь, синьора, — сам начиная несколько волноваться, говорил Панчетти, — это не так еще скоро делается… Пекки хоть и очень ловок и опытен, но все же ему в один день невозможно напасть на синьора московита…
— Отчего, отчего невозможно?
— Пекки, как и всякий «браво» высшего сорта, всегда производит свое «dar uno sfriso» таким образом: он под верхнее платье надевает подушки и крепкую сетку и прежде всего старается встретиться со своей жертвой и затеять ссору за бутылкой вина. Если же это окажется невозможно, он выжидает в удобном месте и, приготовясь к защите, загораживает человеку дорогу. С ним поневоле приходится вступить в поединок… ну, а исход такого поединка всегда один и тот же…
— Так что же? Разве это может меня утешить? — стонала Анжиолетта.
— Может, потому что в один день вряд ли Пекки найдет случай встретиться с синьором Александром.
Анжиолетта наконец нашла перо и принялась писать одному из своих дальних родственников, члену совета Десяти, объясняя ему, что узнала об опасности, грозящей иностранцу, и прямо называя имена Пекки и Нино.
Запечатав письмо, она подала его Панчетти.
— Скорее, скорее пошлите с этим Антонио — он расторопен, пусть доставит письмо синьору Риччи, пусть найдет его где бы то ни было… А вы сами ступайте в московитское посольство… если он там — скажите ему, чтобы он не выходил из дому, пока я не извещу его о том, что опасность прошла… Если его нет — ищите, ищите его всюду и не возвращайтесь, не найдя его… Я буду ждать здесь. Буду ждать… и увижу — действительно ли вы мне преданы… или и вы — враг мой!..
Панчетти поклонился и молча вышел из гостиной.
Анжиолетта осталась одна. Она упала на колени, залилась слезами и стала молиться. Она всегда считала себя доброй католичкой; но если бы могла теперь сознавать что-либо, то поняла бы, что молится в первый раз в жизни.
VI
Найти кого-либо дома в Венеции в этот день было довольно трудно. В палаццо московитского посольства, кроме прислуги, никого не оказалось. Младший посол, т. е. Посников, хоть и был у себя по обыкновению, но заперся и не впускал к себе. К тому же Панчетти от него все равно ничего бы не мог добиться, потому что они имели возможность объясняться друг с другом толы о знаками.
Один из штата итальянских служителей, состоявших при посольстве по распоряжению венецианского правительства, объяснил Панчетти, что тот, кого он спрашивает, возвратился в палаццо на короткое время часа через два после полудня, а затем ушел снова вместе с главным послом и небольшою свитой.
— Куда же они отправились?
— Куда? Конечно, глядеть на драку, которая до вечера шла между Костеллани и Николотти… Я вот весь день нынче не трогался с места по обязанности… ничего тут не знаю… не слыхал ли синьор аббат, кто на этот раз победил? В прошлом году Николотти остались победителями, ну а нынче кто? Не слыхали?
— Ничего я не слыхал, — с неудовольствием ответил Панчетти и знакомыми ему закоулками, проходами и дворами, всячески сокращая дорогу, направился пешком к площади Святого Марка, приказав гондольеру дожидаться его у Пьяцетты.
Борьба Кастеллани и Николотти после обручения дожа с морем была чуть ли не самым любимым зрелищем в Венеции. Издревле на противоположных берегах канала Гранде находились два квартала, из которых один носил название Кастелло, а другой — Сан-Николо.
Жители первого назывались Кастеллани, а второго — Николотти. С незапамятных времен они враждовали друг с другом, ненавидели и презирали друг друга самым искренним образом, со всею страстностью своей итальянской натуры. В пределах Кастелло слово Николотти означало отчаянных негодяев; в пределах Сан-Николо обозвать кого-нибудь Кастеллани значило объявить ему, что он последний из мерзавцев. Зарезать жителя враждебного квартала — признавалось лучшим подвигом.
Эти чувства и понятия всасывались с молоком матери, и даже нет ни одной легенды, по которой бы какой-нибудь Ромео нашел свою Джульетту во враждебном квартале.
Но время делает свое дело. Прошли века — и вражда между Кастеллани и Николотти истощила весь яд свой и затихла. В XVII столетии о ней сохранились только кровавые предания и обычай ежегодно, в один из самых шумных дней карнавала, поминать ее примерным побоищем.
К этому дню в том и другом квартале выбирались молодцы, отличавшиеся ловкостью, удалью и силой. Они наряжались в самые разнообразные костюмы, выбирали с каждой стороны предводителя и сходились на мосту. Задача была — пробить себе дорогу на противоположный берег канала. Единственным оружием оказывались кулаки и сильные мускулы.
Однако хоть и примерная, без ненависти и жажды крови, а все же борьба эта была довольно опасной. На мосту не существовало парапетов, и многие из сражавшихся не только падали в мутную воду канала, но иногда, обессиленные и избитые, шли прямо ко дну…
Алексей Прохорович разохотился на всякие зрелища: карнавал, несмотря на «хари», все больше и больше занимал его, оперное представление он одобрил, когда же ему сказали, что будет на мосту «потешный бой между немцами», он пришел в большую даже радость. Сызмальства любил он кулачные бои на Москве-реке, не пропускал ни одного, многочисленная его дворня очень хорошо знала, что после каждого кулачного боя, которому он бывал свидетелем, у него особенно как-то кулаки чешутся. Лучше ему и на глаза не попадаться: за всякую малость такого тумака задаст, что инда искры из глаз посыплются.
А тут вдруг случай посмотреть немецкий бой, сравнить его с московским — все сердце закипело у посла и воеводы.
— Едем, что ли, едем скорее! — торопил он Александра. — Это, братец, позанятнее твоей оперы будет!.. Посмотрим-ка немецкий бой… хитры они, немцы, на всякие измышления, ну и коли дело до кулаков, я так полагаю, что против наших молодцов они вконец осрамятся… А что, не пустить ли на них Петру с Архипкой?! А, как ты думаешь?
— Что ты, Бог с тобой! Мы тут гости, смотреть можем, а вступаться нам негоже.
— И то правда, а жаль! Петра с Архипкой так бы их поучили, таких бы волдырей им понаделали, что вовек бы немцы нас не забыли!.. Ну, так хоть посмотрим.
Посмотреть хотелось и Александру. Он только что вернулся от синьоры Анжиолетты, обещал быть у нее вечером, но до вечера долго — бой засветло кончится.
Поехали, вышли на берег из гондолы, протискались сквозь толпу, нашли себе место, с которого все хорошо было видно.
Бой уже завязался на самой средине моста, и ни одна из партий не подавалась ни на шаг. Свалка была ужасная. Бойцы схватывались, удары сыпались. Вот один, вот другой и третий полетели в воду. Один сам выплыл, двоих вытащили гондольеры.
Алексей Прохорович жадно следил за боем и громко выражал свои впечатления.
— Ай да молодцы, не ждал я от немцев такой удали!.. Ловко жарят!.. Эвона, глянь-ка, глянь! Ишь ты, как он его под микитки!.. Так, так… это по-нашему!.. — весь красный от волнения, с блестевшими глазами кричал Чемоданов.