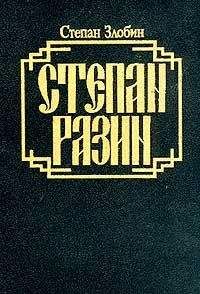Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь
И после того келья стояла пустая, а старец Кирилл в странноприимной келье остался. И послал он меня в эту пустынь жить, где бес хозяиновал. Я же, грешный, старца прошу: «Отче святый, помози мне в своих молитвах, да не сотворит мне дьявол пакостей». И с благословения старцева направился я сюда с бесами ратиться. И стало сердце мое трепетать во мне, а кости и тело дрожали, а волосы на голове моей поднялись, в такой ужас я пришел. Я же, грешный, положил книги на налой, а образ медный Пречистой Богородицы поставил в киоте. Потом покадил книги, и образы, и келью, и сени и начал вечерню пети, и псалмы, и каноны, и поклоны, и иное правило келейное. И продолжил правило до полунощи (а было то до крещения Христова за два дни). И утомяся довольно, возлег починути и живоносным крестом оградил себя трижды. И спал до заутрени мирно, ни страха, ни духа бесовского не ощутил. И так с неделю спокойно жил.
Но однажды после трудов взял меня сон тонок, и явились ко мне в келию два беса, один наг, а другой в кафтане. И взяли доску мою, на ней же почиваю, и начали меня качати, как младенца. Я же, осердясь, встал с одра моего и взял беса нагого поперек. Он же перегнулся, яко мясище некое бесовское, и начал я его бить о лавку, о коничек. И завопил великим голосом: «Господи, помози мне!»
И видится мне, будто потолок келейный открывается, и пришла сила Божия на беса. А другой бес прямо у дверей стоит в ужасе и хочет вон бежать из келий, да не может; ноги его приклеились, и не вем, как бес из рук моих исчезнул. Я же очнулся, будто от сна, зело устал, бия беса, а руки мои от мясища бесовского мокры. И после того больше году не бывали бесы ко мне в келию.
До Покрова за две недели после правила моего лег на месте обычном на голой доске, а голова ко образу. И еще не уснул, как дверь в келью отворилась и вскочил ко мне бес, яко разбойник, и ухватил меня, согнул вдвое и сжал туго, что невозможно ни дышать, ни пищать, только смерть. И еле-еле, на великую силу пропищал я в тосках: «Николае, помози мне!» – так бес меня и покинул, и не вем, куды делся. Я же, грешный, начал к Богородице: «О, Пресвятая Владычица моя! Почто меня презираешь и не бережешь меня, бедного и грешного! Я ведь на Христа-света и на Тебя-света надеялся, мир оставил, и монастырь оставил, и пришел в пустынь работати Христу и Тебе...»
И от печали напал на меня сон. И вижу себя седяща посреди келеицы на скамейке, на ней же рукоделие мое. А Богородица от образа пришла, яко чистая девица, и наклонилась лицом ко мне, а в руках у себя беса мучит, коий меня мучил. А я зрю на Богородицу и дивлюся, а сердце мое великой радостью наполнено, что Богородица злодея моего мучит. И отдала мне Богородица беса уже мертвого. Я же взял его и начал мучити: «О, злодей мой, меня мучил, а сам и пропал!» И бросил его в окно на улицу. Он же ожил и восстал на ноги, яко пьян, и грозится: «Ужо я опять к тебе не буду ходить, а пойду на Вытегру». Я же сказал: «Не ходи на Вытегру, иди туда, где людей нету!» Он же, яко сонный, побрел от кельи прочь. Я же от сна пробудился и прославил Христа.
А живя в пустыни, сподобился я питаться от рукоделия. А иные боголюбцы приносили Христа ради. А в пустыни жити без рукоделия невозможно, ибо находит уныние, и печаль, и тоска великая. Добро в пустыни – псалмы, молитва, рукоделие и чтение. О, пустынь моя прекрасная!
– Не мара, не кудесы. Не дым и не сон. Бес видим и оборим. Вот он разжидился, рассопливел пред тобою, подался прочь на Вытегру, утянулся, ненавистник твой. Пусть и не до смерти, но одолел же ты его, проклятущего?
– Видим-то он видим, пожалуй. Но вот как тень. Вроде и мясища его потные держал и гнул беса, как кочедык, и об лавку лупцевал, и сок из него жал, как сыворотку из творога. Вроде бы помереть ему должно на том месте. Жалконький от меня побрел, как чахоткой съеден. И опять набрался силы... Он, вражина, на Вытегре набедокурил, меня не послушался, и назад в пустыньку вернулся в новом обличье нас доканывать. Думал, не признаю его. А я признал... Да и ты его ведаешь, старца Александра. Лжепророк, лжеплемяш царев, слуга антихристов, обольститель лукавый, он всех очаровал на Суне-реке и под Онего, бедных христиан под себя подпятил, посулами улестил, наобещал, как слаже жизнь бренную коротать; де, упивайтеся вином, блудите всяко, наушничайте, тираньте слабых; де, малый грех покрывается большим, а набольший грех покрывается Иудой, которого всегда пасет верный брат Исус. До чего договорился, анчутка, язык не повернется такое молвить. А народ потянулся издалека, наслышав, потек на его сладкие речи, будто сахарными пряниками умостил он тропу в пустыньку. Иные и жен с детьми побросали, другие мужевьев своих, как с ума посходили. Воистину скончание света... Вот он будто и видим в яви, и повадки все вражьи напоказ, но отчего очи-то у христовеньких помутились? В этом бесе они нового Христа видят и двоят его вместях с Иудою. Тьфу-тьфу... От него я сошел на Видань-остров, дак и здесь достают, не дают уединения, завистники. А я на них не гневаюсь, не. Ибо возлюби врага своего пуще брата своего. Я ведь для прилики ратюсь, чтобы опомнились. И на Голгофу поведут, и копием прободают под ребра, и венец терновый с шипами возложат на грешную мою голову, но и тогда и словечушком горьким не упрекну их вин и прощу во всяком грехе. Так ли я говорю, братец? – Епифаний испытующе посмотрел на юрода, глаза отшельника стали талые, прозрачные, влажные от близкой слезы. Феодор же упрямо вскинул голову, сгорстал верижный кованый крест, словно бы сулицу боевую ухватил, чтобы вернее ополчиться на ворога. И почуял, как живая горячая сила притекла от креста в сердце. Но отшельник и не ждал ответа, ибо заповедями Христовыми был полон он, как криница гремучего студенца прозрачной влаги...
– Что молвить? Смиренному иноку мои слова – как ржа железу, как искра соломе. Разного мы пути, Епифаний, и разного обету. Ты, монасе, молишь Бога, чтобы дал тебе дольше жизни для спасения других. И в том твой подвиг. А я молю Господа, чтобы дал мне страданий и смерти в страданиях. Я к Христу спешу, чтобы замолвить слово за вас. Мне все видимо, от тебя же все скрыто...
– Закоим так, братец! Мы же воины Христовы, – слегка пообидясь, воскликнул Епифаний и, словно бы боясь потерять юродивого, цепко ухватил его за обтерханный рукав холщового кабата, сквозь прорехи которого светилось измозглое тело. – Где тебе ишо бродить? Оставайся-ка у меня. Будем вместе терпеть нужу.
И отшельник, помолясь, гостеприимно отпахнул низенькую дверь в жило. И еще не войдя в монашеское житье, Феодор услышал сердцем, что здесь ему быть.
Светлый домок у Епифания о пяти стенах на две келеицы, сам с любовию ставил. Одна келейка будет с локтем сажень меж углы, а в другой, поди, с полсажени; в одной клети моленная и для книг, в другой мастерская, рукоделий для, и опочивальня тут же; стены со тщанием, гладко скоблены теслом, в углу печура из речного камня, по стенам лавки, у порога коник с рундуком для скарба; в обеих келеицах лампадки горят, травы пучками в углах, в низкое волоковое оконце струит с реки сквознячок, наполняет житье каким-то чудным, святым запахом. И неуж сюда бесы прихаживают? Эко-нако, подумал Феодор, ревниво озирая уединенную хижину: пахло липовыми стружками, смолою, рыбьим клеем – всем тем духом, что обычно обживается у столяра и древодела. Но не поселилось тут монашеской постной прогорклости и старческой затхлости. Потому и прихаживают сюда бесы, что земными чувствиями еще полон монах, и сердце его почасту прельщается привадами грешного мира...
– Не остануся у тебя. Не уламывай, – упрямо супился юродивый. – У тебя дух чижолый, грудь спирает. Негде мне у тебя спать.
– Ты что, Феодор? Окстись! – взволновался отшельник – На мою лавку ляжешь, а я под порог. От бесов боронить. И больно хорошо.
– Это я под порог, – неуступчиво возразил Феодор. – А лучше того с той стороны, где Бог скитается. Душно мне в избе.
Тело юродивого вдруг затомилось, запросило бани. Феодор почувствовал, как запаршивел он, закоснел, окоростовел всякой телесной волотью и мосоликом, и даже сердце-то вроде бы обросло мхом.
«Соблазн кругом. Приваживают бесы, и дражнят, и поманывают», – испугался Феодор неожиданной слабости, царапнувшей сердце.
Глава шестая
...Спесив ли он, кир Никон?
Боярин Салтыков, при дворе толчась, ежедень про то талдычит, впотай ябеды и скверны чинит на патриарха и всю дворню настроил за старую веру смертно стояти; Никита же Романов, царев дядька, не может забыть прежних обид, как патриарх самолучшие иконы франкского письма изъял из боярских покоев, поколотил об пол Успенского собора и прилюдно честил срамными словами первого русского богатея; Морозов Борис Иванович за немца и свея горою встал, прельстившись чужеземными порядками, и, ничего иного не придумав, уличает патриарха в корыстолюбии и в низкой страсти золото и меха считать, запершись в уединении; Богдан Хитров веком не простит Никону, что тот томит, до руки не допускает и благословения на женитьбу не дает, пока не прогонит окольничий от двора наложницу-литовку; протопопы-пустосвяты грызутся в отместку, де, почто бывый друг от двора их отлучил, и от черной зависти клеплют на Никона со многих крестцов, кричат анафему и мутят голь; Ордин-Нащокин уросит и косится, не спускает патриарху, де, почто тот в посольские дела ползет без спросу, Польшу и Украйну замутил, самого государя отодвинул в заштатный ряд, перенимая у него земной славы; Шереметев с Одоевским и Трубецкой не жалуют Никона, что он в военных делах измыслил себя полководцем, шлет в полки орации, командует воеводами, строит оружие и рати; священницы из приходов плачутся, де, немыслимо строг, немилосерден патриарх, позабыл Божьи заповеди, не прощает и малых вин, заключает в темницы, в колодки и цепи, как рабов, замучил налогой и пенею; монахи же прячутся по-за углы от патриаршьих стрельцов, ибо те заимели власть хватать всякого чернца прямо на улице, заподозрив в пьянстве, и тут же ссылает их Никон по дальним сибирским местам в досель пустовавшие монастыри; и для всякого провинившегося при судейских комнатах есть своя темничка с цепями, с дубовыми стулцами на шею и с кобылою для правежа; духовные же власти всякого чина, помня о страшной кончине ослушника Павла, епископа коломенского, в страхе дрожат, представ пред патриархом, ибо вспыльчив святитель и неуступчив до всякой промашки и, не дождавшись дьяческого разбора и царевой воли, скорой рукою, не выходя из церкви, тут же, в алтаре, самолично и сдерет скуфейку с головы да и отправит игумена ли иль протопопа в монастырскую пекарню сеять муку; а всякому служебному чину в патриаршьем Дворце и вовсе туга и печаль, и оттого, как бы уцелеть, всяк прикидывает друг за другом, чтоб без промашки крикнуть «слово и дело». Ох-ох-ох...