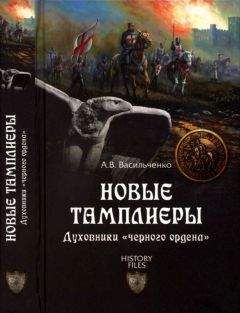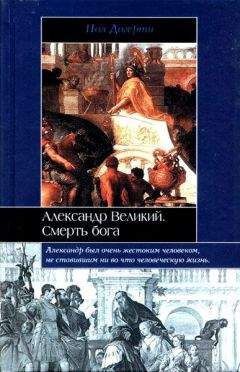Марк Алданов - Истоки
О женитьбе он подумывал и сам. Михаил Яковлевич нравился женщинам. Некоторые легкомысленные курсистки называли его «душкой». Говорили, будто жена одного старого профессора хотела из-за него отравиться; правда, она не отравилась, однако, хотела, и слух сам по себе окружил его некоторым ореолом. Сам он с веселым недоуменьем думал, что оказался тут в роли не Дон-Жуана, а Иосифа Прекрасного. Черняков по джентльменству никогда об этой истории никому не говорил; да и в роли Иосифа он оказался также из джентльменства: мысль о том, чтобы отбить жену у товарища, была ему противна. Михаилу Яковлевичу нравились многие барышни и ни в одну из них он не был влюблен. Но ни одна барышня не нравилась ему так, как Елизавета Павловна.
Ученая и журнальная карьера занимала в жизни Чернякова такое огромное место, что для всего другого оставалось немного. Это немногое он собирался отдать жене, зато целиком, без остатка, и чувствовал, что будет прекрасным мужем, прекрасным отцом семейства. «Была бы милая, хорошенькая девушка, хорошо воспитанная, достаточно образованная, и мне больше ничего не нужно». Никогда он не искал за невестой денег. Правда, деньги дали бы возможность устроить салон, что было его мечтою. Но Михаил Яковлевич был бескорыстным человеком. Он уже достаточно зарабатывал и рассчитывал скоро стать редактором отдела в одном из лучших журналов: его ежегодный заработок тогда дошел бы до четырех тысяч. «Этого достаточно для приличной жизни. С таким бюджетом можно, без салона в настоящем и тесном смысле слова, принимать раза два в месяц. И дело, конечно, не в том, чтобы непременно был первоклассный ужин, дорогие вина, хотя, конечно, это имеет известное положительное значение, — главное: какие люди бывают. А у нас охотно будут бывать самые выдающиеся люди России… Нет, нет, никакого приданого, лишь бы милая девушка», — думал дома по вечерам Михаил Яковлевич.
Незадолго до своего временного переезда в дом Дюймлеров, он снял новую, довольно большую квартиру, — с лишней комнатой для будущего будуара будущей жены, как детям шьют платье с некоторым запасом на рост. Улица была хорошая, адрес на визитной карточке был такой, какой нужно: не набережная, не Сергиевская, не Миллионная, но и не Гороховая и не Загородный проспект. Понемногу Михаил Яковлевич обзавелся обстановкой. Он покупал ее именно так, как советовали покупать Муравьеву: бегал по рынкам и все покупал по случаю (причем случай редко не бывал необыкновенным). Михаил Яковлевич был одним из первых в Петербурге людей, оценивших русскую старинную мебель. В кабинете у него стояло приобретенное за бесценок бюро с откидной крышкой на ремне, с множеством ящиков, с тайниками, — вещь совершенно отентичная[76], как он говорил приятелям, показывая на ходы, прорытые червями (вологодская мастерская, изготовлявшая на всю Россию старинную мебель, специализировалась на червях). На бюро были в порядке расставлены мраморные канделябры, мраморный письменный прибор, с чернильницей, песочницей, разрезным ножом, лодочками для перьев и карандашей. Бумаги были распределены по ящикам, — Михаил Яковлевич только не знал, что положить в тайники; в его жизни почти ничего тайного не было. Освещался кабинет тяжелой александровской люстрой в виде черного бронзового блюда. В углу была фигурная изразцовая печь, а на стенах висели портреты Тургенева, Шеллинга и Гнейста с надписью: «Herrn Professor Dr. Michael Tscherniakoff in aufrichtiger Schätzung. Rudolf Gneist».[77]
Однако, как ни нравилась Чернякову Елизавета Павловна, он понимал, что на заказ было бы трудно придумать менее подходящую для него жену. «Конечно, с годами дурь с нее соскочит. Она просто слишком энергична и деятельна, я не верю в серьезность ее радикальных убеждений. Все это нынешнее поветрие, влияние тех молодых людей, которых я выживу из дому. Но это „с годами“, а если делать предложение, то надо бы сделать его сейчас. Между тем ее тон, ее барские замашки, возможные сюрпризы…»
— Так что же вы думаете, господа, о замене Николая Николаевича Тотлебеном? — спросил Павел Васильевич. Черняков вздохнул и высказал свое мнение; оно, впрочем, не отличалось от мнения половины других профессоров. Доктор Петр Алексеевич пожал плечами. Назначение Тотлебена совершенно его не интересовало. Разговор ненадолго остановился.
— Ну, мы как, Машенька, как живем? — спросил Черняков. — Ах да, Коля очень просил вам кланяться. — Маша вспыхнула. Она от всего краснела. Это (и еще ее заиканье, впрочем, очень легкое) было крестом ее жизни. — Коля мой племянник, а ныне волей судеб и мой воспитанник, — пояснил Михаил Яковлевич Муравьеву.
— Да, конечно, сын вашей сестры. Мы встречались в Эмсе. Ведь ваши тоже, как мы, каждое лето ездят на воды за границу?
— Да, из-за Юрия Павловича. Сестре, слава Богу, лечиться не приходится: мы, Черняковы, здоровая порода. А вот Юрий Павлович уже три года болеет.
— Надеюсь, ничего серьезного?
— Серьезного, кажется, ничего, — нехотя подтвердил Михаил Яковлевич. Он накануне получил от сестры письмо; Софья Яковлевна сообщала, что болезнь ее мужа довольно опасна, и просила не говорить об этом Коле. Черняков, читая, подумал, что едва ли это сообщение очень Колю взволновало бы: он не любил отца и почти не скрывал этого от дяди. — Но нужны какие-то затяжные исследования, Юрий Павлович лежит в лечебнице. Вероятно, они там пробудут до июля, как это следует из письма, лишь вчера мною от сестры полученного. Колю же они, уезжая, оставили на моем попечении. Вследствие этого не совсем для меня удобного обстоятельства я временно переехал в их дом.
— Как же вы… воспитываете Колю? — спросила Маша, опять покрасневшая оттого, что запнулась.
— Ну, работы у меня с ним мало. Учится он прекрасно, первый в классе, ведет себя тоже недурно, и целые дни читает. Этот мальчишка уже знает больше, чем я! Но зато какая самоуверенность!
— У кого это самоуверенность? — спросила снова вернувшаяся Елизавета Павловна. — Ах, у Коли. Это хорошо, я люблю самоуверенность в мужчинах. Только не хвалите его при Маше, она и так, кажется, в него влюблена.
— Какой вздор! Ни в кого я не влюблена!
— Я тоже нет, сестра моя, и это очень печально.
— Нисколько не влюблена, а только мы играем вместе в теннис. Он отлично играет.
— Коля все делает отлично.
— Как это скучно, особенно в мальчике, — сказала Елизавета Павловна.
— Добавьте, что он страшно р-революционных взглядов, и намерен скоро приступить к изучению Карла Маркса! Впрочем, я за него спокоен: в революцию он и не сунется, а станет знаменитым адвокатом и затмит Спасовича. Он и теперь упражняется тайком в красноречии по самым лучшим радикальным образцам.
— Машенька у меня тоже сочувствует революции. Впрочем, еще года полтора тому назад она обожала императрицу и каждый день за нее молилась.
— Папа, за… зачем?.. Это не так, — вспыхивая, сказала Маша.
— Быль молодцу не укор, Машенька, — сказал Черняков. — Но если вы хотите, чтобы Коля в вас влюбился, — это чистейшая гипотеза, — то всячески восхищайтесь им, его взглядами и его дьявольским красноречием. Он обожает, чтобы им восторгались.
— Я тоже обожаю… Петр Великий, мне надо сказать вам «пару слов», как пишет Лесков. Пройдем на минуту ко мне.
— К вашим услугам, — радостно откликнулся доктор. Они вышли. Маша проводила сестру тем же влюбленным, теперь вдруг встревоженным взглядом, точно она ее ревновала к Петру Алексеевичу.
В спальной Елизаветы Павловны был такой же беспорядок, как во всей квартире, за исключением комнаты Маши. На кровати и стульях было разбросано что-то белое. Петр Алексеевич поспешно отвернулся и подумал, что Елизавета Павловна, часто смеявшаяся над его застенчивостью, верно привела его сюда нарочно. Он был очень влюбчив и тщательно скрывал это. Ему казалось, что люди всегда над ним смеются: крошечный рост определил душевный склад Петра Алексеевича и даже отчасти его жизнь. Елизавета Павловна достала из комода небольшой футляр с кольцом.
— Петр Великий, вы можете оказать мне услугу? Но сначала дайте слово, что вы никому ничего не скажете.
— Какая таинственность! — смеясь, сказал доктор. — И, верно, как всегда, ерунда… Ну, не обижайтесь, даю слово и обещаю исполнить, если вы меня не будете называть Петром Великим.
— Хорошо. Я принимаю… Сколько по-вашему может стоить это кольцо?
— Не знаю. Почем мне знать? — изумленно спросил доктор. — Я не ювелир и отроду этого барского добра не покупал. Я не какой-нибудь…
— Но приблизительно?
— Верно, рублей сто или полтораста?
— Я тоже не знаю. Это подарок папа… Вы когда-нибудь закладывали вещи в ломбарде?
— Сколько раз! Но у меня и закладывать было почти нечего, я приносил по трешнице, а то и меньше. Вы не можете себе представить, как я был…
— Как вы думаете, сколько дадут в ломбарде за это кольцо?