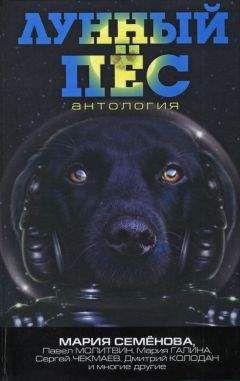Павел Загребельный - Евпраксия
Никогда еще не видела Евпраксия столь яркого света, что ломко падал с ледяных вершин вниз, так и не достигая дна глубоких долин, где испокон веков жили люди.
Они приближались к спуску. Молочная река облаков обхватила их, потом медленно отплыла в сторону и вверх, открыв иные вершины, издали показав разорванную цепь совсем уж высоченных гор, покрытых снегом, купающихся в ослепительном солнце. А более близкие к ним снежные плоскости, скалы, и темные ущелья, и бездонные пропасти, что гинули в вечной тени, начали окутываться мерцающей голубизной, которой, казалось, был насыщен воздух, и Евпраксия почувствовала, как она сама наполняется тою же чистой голубизной, погружается в нее, опускается в вечно голубой свет Италии, где, возможно, найдет облегчение ее исстрадавшаяся душа.
Император не встречал Евпраксию. Велено ей было остановиться с двором в Вероне, а двор Генриха был в Падуе, но самого императора там тоже никто не нашел бы, потому что он где-то брал еще один итальянский город или замок. На черных дорогах войны познал Генрих, что такое власть, государство, империя и жизнь человеческая, верил только в войну – ни во что больше. Корабль служит плаванью, щит – обороне, меч – для удара! Зло называй всегда злом и не давай покоя своим врагам. Будет волк дремать – не добудет доброго мосла, воин не победит, коль много спит.
Император вел свою войну, и не было силы, которая оторвала бы его от этого дела. Бились за какой-то холмик земли иль за ручей, бились упорно и ожесточенно, погибало много людей, а император посылал туда еще больше, потому что его противники тоже старались послать больше, чем было убито, холмик иль ручей переходили из рук в руки, и как-то никому не приходило в голову сравнить, что добывали и что теряли.
Странно: император так домогался переезда жены в Италию, а когда она преодолела Гигантские горы, сразу то ли успокоился, то ли впал в равнодушие, не смог оторваться от своей войны, чтобы хоть для виду встретиться с императрицей. Евпраксия не была обеспокоена таким странным невниманием к себе, более того, даже обрадовалась, что не нужно будет тратить сил еще и на разговоры с этим ненавистным человеком. Но для окружения Евпраксии странное императорское невнимание к ней стало зловещей приметой, и в Вероне воцарилась напряженность с первого дня пребывания императрицы.
Евпраксия не могла предвидеть, что ей суждено пробыть в этом городе несколько самых тяжелых лет жизни, испытать тут неволю и чувство самой большой безнадежности. Если б предвидела, может, возненавидела этот город сразу же, а пока на пути к Вероне осматривала с любопытством новый край, жадно впитывала его краски и формы, радовалась солнцу, безбрежности неба, громадам гор, деревьям, цветам, животным.
Голубой полукруг гор остался позади, в стороне у их подножия спокойно темнели прозрачные воды озера Бенако; чистые ручьи с шумом впадали в озеро; из каменистых долин, близких к городу, мутными валами катилась навстречу путникам жара, но будто разбивалась об углы башен крепости Пескьера, поставленной на берегу Бенако. Собственно, уже от Пескьеры начинались владения Вероны; каждый камень, каждая вознесенная в небо башня принадлежала городу, в который ехала Евпраксия, принадлежала ему и зависела от него. Земля тут была пропеченная солнцем, опаленная и линялая, что-то мертвое чудилось даже в зелени деревьев, лишенных сочности; поражал камень – сухой, без мхов, без влажной земли под ним; небольшие городки и одинокие маленькие крепости топорщились на удивленье высокими, тонкими, гранеными башнями. Тут не встретишь замков круглых и приземистых, как сами хозяева – налитые пивом до горла германские бароны; тут все было угловатое, резкое, четкое, и люди, выехавшие навстречу императрице, чтоб сопровождать ее, тоже отличались четкостью движений, их смугловатые лица казались опаленными не только извне, некий огонь постоянно жег их еще изнутри.
Чем дольше ехала Евпраксия по итальянской земле, тем быстрей пропадали радость и любопытство, тем заметней угнетали ее эти странные башни, растущие повсюду. Каждый богатый синьор ставил башню как знак могущества. Императрице перечисляли роды, что владеют башнями и здесь в Романии, Тоскане, Тревизо, Лациуме: Скала, Каррара, Висконти, Соффрединги, Торкарези, Убальдини, Герардинги. Всех не перечесть! Император Генрих IV брал города и замки, он должен бы разрушить башни, за непослушанье хозяев, но не делал этого: крепостные башни пригодятся – для обороны, а то и для тюрем, потому что императоры всегда заботятся о тюрьмах больше, чем о людях.
Верона пряталась в глубокой долине реки Адидже. Изгибы коричневых неистовых вод Адидже змеистым кольцом охватывали зубчатые стены и башни города. В глаза бросался розовый камень строений, золотисто светились высокие церковные колокольни, клокотала вода вкруг тяжелых каменных опор старого, еще римских времен моста, что соединял город с холмом Сан-Пьетро.
Непробиваемы были стены, венчавшие холм, суровые башни стерегли императорский дворец, построенный, как вся крепость, неведомо кем и когда: то ли Цезарем, который даровал тысячу лет назад веронцам римское гражданство, то ли Остготом Теодорихом, то ли лангобардом Албуином, при которых Верона была главной королевской резиденцией. Генриху Верона тоже пришлась по сердцу, именно потому, как объяснял в послании к своей жене, он пожелал, чтоб сей город стал достойным местом пребывания императрицы в италийской земле на то время, пока ее император будет занят ратными трудами.
У подножия Сан-Пьетро ярко сверкала на солнце гигантская белая подкова римского амфитеатра. Белые каменные скамьи, несмелые кустики мирта меж камнями, обломки украшений, мраморные завалы до самого берега Адидже, – и внезапно из-за этих завалов прямо навстречу свите императрицы выкатилась исступленная толпа нагих людей.
Прыгали по камням, петляли среди кипарисов, бежали напрямик, мчались наперерез друг другу, молча, яростно, в диком непостижимом бешенстве – кто, откуда, куда? Даже невозмутимый аббат Бодо, что держался оконь рядом с лектикой, в которой несли императрицу, не смог скрыть своего изумления.
Произнес почти вслух: "Из ада иль в ад спешат эти смертные?"
Евпраксия расширенными от ужаса глазами смотрела на исступленных бегунов. От зрелища можно было сойти с ума, оно живо напомнило страшное сборище в крипте ночного собора, где навеки обесчещена была ее чистая душа, где надругались над Журиной, где растоптали все святыни, которые собирала в душе с рожденья и берегла старательно и заботливо. "Вильтруд! – простонала императрица. – Не гляди! Закрой глаза! Отвернись!" А сама уже теряла сознание, темные круги вертелись перед глазами, бесконечные, безвыходные. Позор, стыд, конец всему!
Веронцы, что сопровождали императрицу от Пескьеры, малость обескураженные этой неожиданностью, пытались рассказать Евпраксии об этих голых бегунах. О, здесь нет ничего злоумышленного, одно лишь смешное.
Каждый год устраиваются такие состязания бегунов с непременным условием: бежать надо нагишом. Победитель получает целую штуку зеленого сукна. Его торжественно заворачивают в зеленое сукно, просто заворачивают – вот в этом и юмор. Тот же, кто прибежит последним, получает петуха, которого (непременно голым!) он несет в город по римскому мосту Понте Пьетра. Очень смешно: голый с петухом в руках. О, веронцы любят смеяться. Пусть ее величество надлежащим образом оценит эту способность веронцев.
Толпа пробежала мимо, исчезла из глаз, будто ничего и не было, а у Евпраксии долго еще дрожала каждая жилочка. Пережитый ужас гнался за нею, оказывается, и сюда. И Гигантские горы ему не преграда. Не уберегут от него и эти граненые башни, ничто не убережет, если самой не найти в себе сил. А где взять их?
Прислушивалась, как тяжело ворочается, бьется в ней сын, ее кровь и кровь Генриха, хотя это не могло иметь никакого значения: новая жизнь росла в ней, новая жизнь принадлежала ей. Не что-то там круглое жило уже в ее чреве, ребенок, уже ребенок жил в ней, напоминал о себе, добивался внимания. Прислушайся к нему, забудь обо всем прочем, пренебреги всем прочим, стань над всем, превозмоги, возвысся, победи.
Евпраксия преодолела внезапную слабость, возникшую от зрелища голых бегунов, пыталась даже улыбнуться в ответ на рассказ веселого веронца, – что ж, хотелось бы веселья в этом городе и себе, хотя какое там веселье после того, что испытала за горами, в Германии, в земле, название которой весельчаки веронцы насмешливо сокращают: Манья. И она, стало быть, императрица не германская, а просто: маньская? Император мог прозываться маньским – по праву: бешеным был и оставался "маньяком"… В самом деле веселый город Верона!
В дворцовых покоях суета; толклось без дела множество шумливых лентяев, путались под ногами то предупредительные, то слишком любознательные; не было конца спорам, как лучше устроить императрицу, как обеспечить ей покой и наилучшие условия для того высокого деяния, ради которого она сюда прибыла. По мрачным переходам сновали бритые аббаты, баронские жены, с кислой миной у каждой, появились какие-то мегеры темнолицые, столетние, беззубые и безголосые, – повивальные бабки-пупорезки, обмывальщицы: встречают они появление на свет божий новых людей, и они же провожают жизни прерванные.