Борис Акунин - Вдовий плат (сборник)
Сдерживаюсь. Отвечаю на лай величественно, уместно царскому званию:
– Если сия печать – «знак на Каине», то помни, пастырь заблудший, что сказал Господь о Каиновом знамении: «Еже не убити его всякому обретающему его!» Ничем враги мои меня не изведут.
Выхожу из темницы степенно, но внутренне весь дрожу, потрясенный.
А ведь верно! Шестого октября, два года назад, Малюта по моему велению показал Владимиру Старицкому, моему двоюроду, кубок с ядом и булатный кинжал: «Выбирай свою смерть». Это мы с Малютой тоже тогда поспорили – что выберет. И опять я угадал, что Владимир, хилая душа, побоится крови. Поплакал он, да и выпил, подох в корчах – смертью горшей, нежели от клинка.
Неужто прав Пещерник, Господи? Неужто Ты за многие мои вины отметил меня печатью Каина?
А и поделом! Я Каин и есть, нечистый, скверный и злобесный душегубец!
Иду по темному тюремному переходу и горько плачу. Голова моя опущена, стопы тяжелы, плоть студениста, словно некто вынул из меня хребет.
Это часто бывает: когда с высот ликования и самоверия я вдруг сверзаюсь в бездну отчаяния и самоненависти, как наигорший грешник, низвергнутый в Геенну.
Однако есть у меня на такую напасть верное лекарство. Оно здесь же, близко, в полусотне шагов.
Сейчас полечусь, сейчас!
О худших меня извергах
Пытошный дьяк, великий знатец расспросного дела, смущен. Семенит рядом, оправдывается:
– Батюшко-государь, я через змея этого Корнилия сон потерял. Все ломаю голову, как бы его, сучьего сына, пред твоей волей склонить. От бессонницы и удумал: что если ему спать не давать? Приставить человека – и как начнет задремывать, тот бы ему чугунной сковородкой по башке. Без сна дух слабеет, мысль цепенеет. Недельку Корнилий помается – шелковый станет. А?
Не слушаю, подзываю дьяка Разбойной избы, который пока держится сзади, средь свиты.
– Эй, Бастрюка!
Подбегает, отпихнув пытошного локтем.
– Я, государь!
Спрашиваю, утерев слезы:
– Изверги есть?
– Тех-то, прежних, как было велено, всех отработали. Однако доставлены новые. Ты их еще не видел.
Я – нетерпеливо:
– И каковы они? Довольно ли мерзки? Сколько их?
С тех пор как я придумал лекарство от тягчайшего из уныний, по всем краям разослан указ: самолютых извергов, какие где только сыщутся, впредь на месте смертию не казнить, а везти сюда, в Слободу. Здесь разбойный дьяк их принимает, и которые окажутся мерзостью недостаточны, сразу вешает, самых же содрогательных помещает в особые клети для государевой надобности.
Когда я падаю духом и устрашаюсь, не сквернейший ли я из злодеев, прихожу посмотреть на извергов – и вижу, что есть худшие меня. Тогда немного отпускает, становится полегче.
– Ныне извергов трое, все свежие. – От усердия Бастрюка аж запинается. – Вчера из Москвы привезли уловленного кровавого любострастника. Ныне утром с рязанским обозом доставили христохульницу. А недавно, перед самым закатом, из Кимр прибыла девка, великая двоеубийца, которая…
Перебиваю его:
– На месте обскажешь подробно, про каждого. Веди сначала к любострастнику.
В тесной каморе сидит на корточках съеженный человек, затравленно озирается, мигает единственным глазом. Вместо другого – запекшаяся багровая корка. Волоса странные – будто потраченные лишаем. То свисают клоками, а то проплешины, и тоже багровые.
Я хмурюсь:
– Как посмели без меня расспрашивать?
– Такого привезли, – объясняет дьяк. – Когда поймали, толпа начала колотить, волосья рвать, чуть не разодрали. Еле стража отбила.
– Ну-ка, зачти, что прислано. Да начало пропусти, где величания и прочее. Про злодейства чти.
Он разворачивает свиток.
– «…Мая месяца третьего числа на пустыре за Поганой Лужей в бурьянах сыскан труп малый, детский, женского пола. Потроха вырезаны, нос-уши отгрызены, а про остальное и писать срамно. Вкруг лихого места ради очищения от бесовской злобы хожено с крестами и кадилами.
Июня двадцатого у Щипка в яме сыскан другой труп, купеческой дочки Марьяны Филимоновой, а лет той Марьяне семь с половиной. Была она тож выпотрошена, зубами погрызана, опоганена. Служили молебен и ходили крестным ходом.
Августа в четырнадцатый день из реки из Яузы близ Кривой Мельни рыбацкие люди вытащили мертвую отроковицу, в коей признана дьячкова дочь Марфа Дьячкова одиннадцати лет, а признали ее по тельному крестику, как у той Марфы лицо все откушено, и срамные части тож.
По Москве пошел слух, что бродит под заборами оборотень, полумужик-полуволк, грызет малых девок, и многие велели детям со двора не ходить. Служили службы по всем приходам, от оборотня во избавление.
А сентября осьмнадцатого дня мужики-плотники, идучи полем через Остоженку в лавку попить квасу, услыхали в кустах рык и чавк, подумали – не собаки ли, да пошли посмотреть забавы ради, и увидели там посадского, а под ним дите, женского полу, а он ту девчонку поганит, а сам ей зубами ухо грызет. И оторвали его, схвативши, а девчонка уже мертвая. И зашумели криком, и прибежали на крик люди, и поняли, что это он и есть, волк-оборотень, и стали его убивать и мало не убили.
А на первом расспросе посадский сказался Никифором Мясорезом с Мясницкого ряда на Арбате и повинился, что волчьим тем погрызом сгрыз до десяти малых девчонок, да иных кидал в колодцы и их не сыскали. А зачем то поганство делает, Мясорез объяснить не сумел…»
Я смотрю на Мясореза, он же глядит только на дьяка, кажется, считая его здесь главным. Машу рукой, чтобы посветили. От факелов изверг сжимается еще больше, его блестящий глаз бегает зраком, из проваленного рта (ишь, и зубы вышиблены) вырывается жалобный хлип.
Посмотри на него, Господи. Какие страсти творил! Много гадостнее и мерзостнее меня. Где мне до такого?
– Зачем же ты, Никифор, невинных деток терзал и истреблял? – спрашиваю.
Он весь подается в мою сторону, привлеченный мягким голосом. Должно быть, с ним давно никто ласково не разговаривал.
Дьяк замахивается плеткой:
– Отвечай, когда царь спрашивает!
– Не жнаю… – лепечет изверг беззубо. – Так-то живу, как живу, и вдруг беш вшеляется… Как шядет на шею, начнет в ухо шептать да погонять, не могу ему перечить. Иду, куда жовет. Делаю, что говорит… Может, и не я это вовше…
Что ж, бес и меня искушает. Иной раз впадаю и я в беспамятное неистовство. Но никогда, даже в кромешнейшей ярости, не доходил я до столь адовых гнусей. И девчонки малые, овечки безвинные, во мне никогда блудного огня не распаляли.
Взгляни на сего выродка, Господи. Что по сравнению с ним Каин? Этот хуже Каина и хуже меня! Прости же мне, недостойному рабу Твоему, мои грехи, как и я сейчас прощу наипакостнейшего из рабов моих.
– Ступай себе с Богом, Никифор Мясорез. Прощаю тебя ради Христа. Помолюсь, чтобы бес из тебя отселился. Встань, брат мой во несчастье.
Ошалевший изверг хлопает глазом, не встает. Его подхватывают, поднимают, и я лобызаю худшего из моих подданных в распухшие уста.
Зри, Господи! Если уж я, царь жестокий, милую претяжко виновного, неужто Ты, всемилостивый, не умилишься искренним моим раскаянием?
Трогаю печать на лбу, загадываю: когда сей знак сойдет, тогда Бог меня и простит. А до той поры стану жить на воде и сухой корке, носить власяницу с веригами и всечасно молиться, даже и ночью. А еще пошлю на заупокой Владимира Старицкого сто, нет двести рублей. И в Троицу пошлю, и в Кириллов.
На душе уже не так черно, но все равно маятно.
– Веди дальше, – говорю дьяку. – Кто там у тебя еще?
* * *…Заходим в другую клеть, такую же.
Там, посередке, сидит баба, качается из стороны в сторону.
– Се христохульница, – объясняет дьяк, заглядывая в другую грамотку. – Рязанский наместник пишет: прасолова женка Маланья, потерявши в мор мужа и четверых детей, впала в души исступление. Закрыв глаза младшему сыну, последнему из всех, сорвала со стены икону Спасителя, и резала Христов Лик ножом, и топтала ногами, и бранила Господа страшными, неповторимыми хулами, и делала то при многих свидетелях.
Я крещусь: вот уж злодейство так злодейство!
Подхожу, беру бабу за подбородок, поднимаю лицо, чтобы заглянуть в глаза. Каков взор у той, что посмела поднять руку на Спасителя?
А нет никакого взора. Глаза недвижные, смотрят сквозь. Се душа уже погибшая, угасшая.
– Хотел бы я тебя помиловать, Малаша, но не могу, – говорю я сочувственно, ибо слезное сокрушение уместно и над непростимым грешником. – Кабы ты меня хулила и обидела – простил бы. Но за обиду Сына Божия – не могу. Рабы Иродовы секли Его пречистое тело плетьми, а иные надевали на Его чело венец терновый, а третьи прибивали гвоздями и пронзали копьем. Неужто ж мало тебе Христовых мук, что стала ты Его лик пресветлый ножом кромсать?
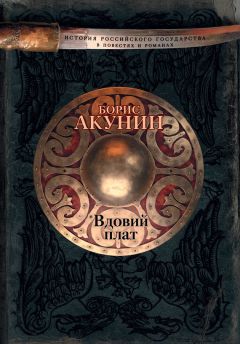

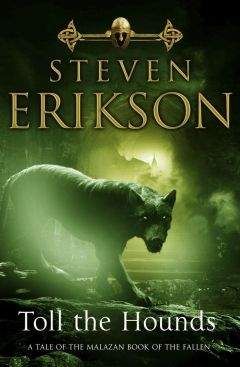

![Иоанна Хмелевская - Большой кусок мира [Большой кусок света]](/uploads/posts/books/227132/227132.jpg)