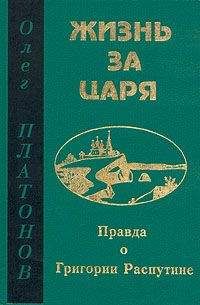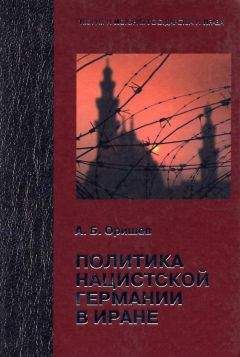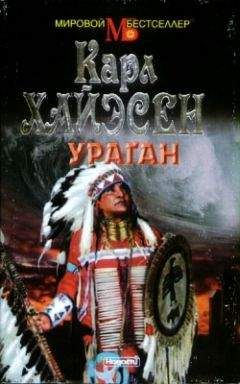Теодор Парницкий - Аэций, последний римлянин
— И опять все точно так же, как тогда, когда Аэций стал начальником дворцовой гвардии…
— Все иначе… все иначе! — торжествующе откликнулся Басс. — Разве тогда кто-нибудь спрашивал сенат о согласии?!
Эти слова довели до предела радость сиятельных, достославных и достосветлых мужей. Забытый всеми патриций беззвучно плакал под тогой, привалясь разболевшимся юношеским лбом к золотому двуглавому орлу, украшающему поручень патрициевого кресла. Вот он раздвинул складки тоги, и большая, тяжелая слеза упала на орлиную голову, которая смотрела на запад.
Слеза быстро высохнет и не оставит следа на отлитой из золота голове орла, которую через шесть недель схватит ораторским жестом рука патриция империи. Широкая, унизанная кольцами рука. Не восемьсот, а тысяча восемьсот толпящихся в ужасной тесноте сенаторов поймут этот жест как олицетворение варваров, окружающих Западную империю… тех варваров, от которых освободит империю новый патриций. При слове «освободит» рука его несколько разжимается, но орлиная голова, если бы она могла чувствовать, видеть и понимать, наверняка дала бы знать, что не варвары, а эта широкая, унизанная кольцами рука сдавила ей горло. Новый патриций с высоты великолепного кресла бросает в тесно сбившеся головы и сердца сильные, властные, звучные слова, и на каждое из них зал отвечает невольным воплем:
— Ave, vir gloriosissime! Ave, ave… ave!..
Его уже подхватывают на руки — сенаторы, солдаты, горожане. Кто вернул былое значение сенату? Кто поведет к новым победам?.. Кто добился, что король гуннов не обрушится теперь на Италию и ее города? Рядом с ним несут на руках Сигизвульта, Басса, Петрония Максима. Людской поток течет от Римского форума через Аргилет и улицу Патрициус и наконец останавливается перед великолепной инсулой. Просунув одну руку под локоть Сигизвульта, другую — под локоть Петрония Максима, патриций идет через пустой перистиль, фауцес, атрий, а когда становится на пороге триклиния, улыбается и говорит:
— Флавий Аэций приветствует свою невесту. Ты помнишь, что ты пообещала благороднейшему из мужей в годину его смерти, Пелагия?
И она ответила:
— Никогда не забывала. Где ты, Кай, там и я, Кайя.
3— Тут так темно, как в цирковом сарае! Я даже не знаю, где ты находишься… Двести палок получит завтра старший над слугами… такое чудовищное нерадение! А может быть, это святые диакониссы? Интересно: если бы одну из них кто-то захотел взять к себе в постель, она бы тоже погасила светильники в спальне?
Стоящая уже за порогом Пелагия тихо вздохнула. Нет, напрасны ее надежды! Бросаемые в темноту слова дышат таким раздражением и таким безграничным удивлением, что ей уже не стоит обольщаться, будто бы цитатами из посланий Павла можно изменить ход вещей! А она уже хотела принести такую великую жертву: хотела сослаться не только на слова патриарха Аттика, которого, впрочем, считала еретиком, но и на все, что говорил и писал о супружеской жизни, девичестве и вдовстве ее великий враг — епископ гиппонский Августин! Но теперь она знает, что все напрасно, поэтому только говорит:
— Это я велела погасить светильники, Аэций!
— Но я же хочу видеть свою жену в постели! — голос его, так быстро становящийся гневным, все еще звучит удивленно. — Ты что, издеваешься надо мной, Пелагия?.. Что это еще за девическая чистота?! Ведь ты уже давно…
Но вдруг он прерывает сам себя и бросает с порога в непроницаемый мрак спальной комнаты вопрос, в котором столько же удивления, сколько и глубокой обиды:
— Ты что, действительно не хочешь меня видеть, Пелагия?.. Ты думаешь, что мое тело не сравнить с Бонифациевым?!.
— Но ведь я тебя еще столько раз увижу, Аэций… Ты привык к женщинам, которые исчезают с ложа к рассвету, и потому так нетерпелив…
Но он уже не слушает. Пелагия видит, что фигура его не заслоняет освещенного прямоугольника двери. Она слышит громкий топот его шагов о плиты фауция, таблинума и, наконец, атрия. Вот он уже спешит обратно. Несет в руках большой, бросающий яркий свет светильник. Он полон гнева и беспокойства. Что бы могло значить странное поведение невесты-вдовы?.. Почему она велела погасить свет? Неужели у нее ноги, как палки, или уродливо болтающиеся груди, а может, она кривобокая?.. А ведь не выглядит такой. Сейчас он ее увидит. Всего он ожидал, только не этих штучек с погашенными светильниками… И именно сейчас, когда он пуще всего желает на нее смотреть! Как все это странно… Все совсем не так… ничуть не похоже на ту брачную ночь восемнадцать лет назад!
«Да, ничуть не похоже!» — скажет он про себя еще раз, входя в кубикул и бросая сильный сноп света на фигуру спокойно раздевающейся Пелагии. Потому что, хотя светлый круг, как и тогда, восемнадцать лет назад, прежде всего захватывает две ступни, с которых только что спали красные, вышитые золотом башмаки, даже эти ступни — казалось бы, такие похожие у всех людей — ничем не напоминают Аэцию дочери Карпилия. И во всей фигуре и поведении Пелагии ничто не напоминает ему первой жены. Вдова Бонифация не очень высокая, но стройная и гибкая… цвет лица матовый, темный… глаза черные, всегда блестящие — даже когда на них падают длинные, еще более темные ресницы… Равнодушным, разве лишь несколько удивленным взглядом смотрит она на почти обнаженного Аэция: ни слова не произнесет, когда он приблизит светильник почти к самой ее груди. Обнаженными, очень темными руками вынимает она из блестящих прядей длинные золотые шпильки, а покончив с ними, начинает снимать широкую пурпурную ленту, четырехкратной диадемой охватывающую красивую, хотя и маленькую головку. Когда же волосы, словно густой клубок черных змей, быстро скользнут на плечи, грудь и спину, она ловким движением скинет с себя тяжелое, затканное золотом облачение, оставшись в одной только длинной тунике.
Ночная рубашка, которая была в брачную ночь восемнадцать лет назад на дочери Карпилия — ярко-красная, из грубой шерсти, — открывала всю грудь и ноги выше колен; туника Пелагии закрывает ее всю от шеи по самые щиколотки, но зато сшита из дорогой тончайшей ткани, какую привозит из далекой страны синов для модниц Западной империи александрийский купец Домин, — выглядит всего лишь прозрачной завесой, бледно-розовый оттенок которой причудливо сочетается с темным телом нумидийской патрицианки. Аэций уже знает, что у его жены нет ни ног, как палки, ни уродливо болтающихся грудей и она не кривобока. Он пожирает ее взглядом, таким жадным и пламенным, что Пелагия начинает испытывать беспокойство: не согрешила ли она, надев эту драгоценную тунику, которой так завидует ее падчерица?..
А Аэций испытывает чувство громадного удовлетворения: четыре месяца назад ему пошел сорок пятый год, значит, он уже далеко оставил за собой возраст, когда мужчиной, его поступками и мыслями правят всемогущие телесные желания, невольником которых, впрочем, он, Аэций, никогда не был. Но долгие месяцы, которые ему до недавней поры пришлось провести среди гуннов, заставили его тосковать по прекрасному женскому телу и лицу. Право, ни дочь Карпилия, которая услаждала в минувшие годы, ни Пелагия, которая будет услаждать его вожделения отныне, по своей женской сути почти ничем не отличаются от гуннских женщин, заполнявших ласками тоскливые ночи изгнания. Но, получая от их губ, грудей и бедер наслаждение не меньше, чем то, что таили в своих губах, грудях и бедрах первая жена и Пелагия, он считал одной помехой свет, безжалостно открывающий все невыразимое уродство женщин гуннского племени… уродство, вид которого — даже у него, так свыкшегося с этим народом! — способен был погасить и отвратить самую сильную похоть, вызывая одновременно невыносимое, мучительное влечение к женской красоте.
И вот она перед ним.
— Прошу тебя, сними с себя и эту одежду, Пелагия…
В голосе его слышатся мягкие и нежные тона, каких никогда не слышали от него ни Плацидия, ни Бонифаций, ни Басс, ни Феликс, ни Кассиодор, ни Андевот или король Ругила.
— Нет, Аэций.
И больше ни слова не произнесла она в ту ночь, хотя через несколько часов Аэций, обильно упоенный и даже пресыщенный и утомленный любовью, начал засыпать ее вопросами, которые задавал все более сонным голосом, но все еще полным искреннего интереса и удивления. Но, не получив никакого ответа, заснул, чтобы проснуться только тогда, когда солнце будет высоко в небе.
Спал он, как всегда, без всяких сновидений. А проснувшись, сразу же вспомнил все, что происходило перед самым сном, и взглянул на Пелагию. Темный цвет ее тела в солнечных лучах выигрывал еще больше. Взгляд его вновь с искренней радостью, хотя уже и без жажды обладания, принялся блуждать по всей ее фигуре. С огромным удивлением он заметил, что слишком быстро, слишком высоко — для утреннего сна — колыхалась темная грудь, почти не тронутая временем: пять лет супружества и материнства… Удивленный еще больше, взгляд Аэция скользнул наконец на лицо, на губы… на щеки… на широко открытые глаза… Она не спала! Во взгляде ее он прочитал столько удивительного и непонятного, что тут же наклонился над нею, почти касаясь лицом широко раскрытых над стиснутыми зубами губ… И вдруг эти губы впились в него… Темные, гибкие руки мгновенно обвились вокруг шеи сильным змеиным объятием… так хорошо знакомое лицо изменилось до неузнаваемости, преображенное желанием столь безумным, что сорокапятилетний Аэций не мог удержаться, чтобы не отпрянуть инстинктивным движением подростка и не спросить дрожащим шепотом: