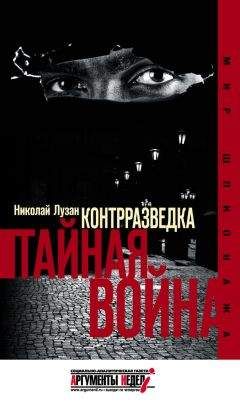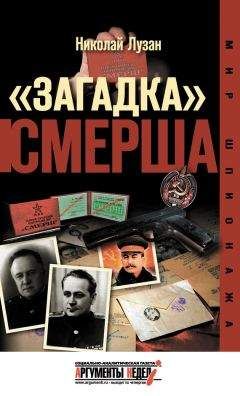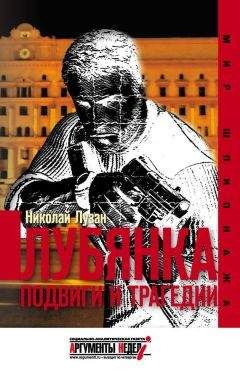Дмитрий Балашов - Дмитрий Донской. Битва за Святую Русь: трилогия
Известие о том, что великий князь перекрыл все пути и его не пропустят в Москву, настигло Киприана уже на выезде из Любутска и заставило тяжко задуматься. Нет! Как камень, выпущенный из пращи, он уже не мог остановить свое движение, не мог отступить, но было совершенно ясно, что на перевозе через Оку, не важно, у Серпухова, Лопасни или Коломны, их захватят, а потому приходило бросать столь удобный и красивый возок, садиться верхом, а Оку переплывать где-нибудь в неуказанном месте, надеясь на удачу и волю Божию. Он все-таки будет в Москве! А там, при стечении толп, перед рядами монашества великий князь уже не посмеет его остановить!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Затея Киприанова, о которой первую весть принес Дмитрию Михаил-Митяй, повергла великого князя в ярость. Его хотели обойти! Его, его! Принудить! И кто?! Этот литвин, Ольгердов прихвостень, хулитель покойного батьки Олексея, ненавистник Москвы, теперь незнамо как и невесть зачем приволокшийся сюда из Киева!
Князь кричал и топал ногами, сломал ударом кулака о стену дорогой перстень. Наконец, с этого следовало начать, вызвал Бренка, повелев немедленно собрать молодшую дружину, а тех великих бояринов, в коих был уверен, созвал к себе на малый совет, после чего по всем дорогам, вплоть до Оки, поскакали разъезды: ловить Литовского митрополита, дабы с соромом выставить его за пределы княжества.
Ни игуменов монастырей, ни купеческую старшину, ни даже многих великих бояр князь не известил о своем решении, "творяху отай" соромное выдворение византийца из пределов Московии.
Тихий ропот слухов и пересудов тек между тем по Москве, отшатнувшейся от Митяя, толковали в трапезных московских храмов, на площадях и в торгу. "Едет, едет!" — слышалось там и тут, и, как знать, не состоялось ли бы торжество Киприаново, успей он войти в город при стечении толп народных?
Надо и то сказать, однако, что дружина и кмети, ветераны борьбы с Литвой, плохо разбиравшиеся в делах и тонкостях церковных, в большинстве полагали, как и князь: "Едет литвин!" И, памятуя Ольгердово разоренье: "Гнать его надо! Батьку Олексея хулил!"
Так что и Ванята Федоров с Семеном — они подружились после свадьбы сестры — пыхали ратным духом и рвались ловить незваного находни-ка. Иван был услан к Оке и пропустил караван Киприана, подошедший иным путем. Семен же оказался как раз в той дружине молодого воеводы Никифора, которая стерегла Боровицкие ворота города.
Киприана на левом берегу Оки встретил монашек, посланный из Петровской обители, и потому, обойдя все заставы, Киприанов поезд оказался на заре летнего дня под самой Москвой. Стояла ясная чуткая ночь, и небо уже окрашивалось шафранным золотом предутрия, когда кавалькада всадников въехала на наплавной мост через Москву-реку, отстранив стражника с коротким копьем, что, спросонь, не поспел как-то и спросить: кто такие? И только смутно глядел вслед, соображая, что надобно бы повестить старшому, который, однако, ускакал в замоскворецкий ям к своей зазнобушке, крепко наказавши никому, ни боярину, ни сотскому, не баять о том. Додумав до конца, стражник махнул рукою и отворотился — пущай разбирают сами, кому нать! Это был один из тех вояк, про коих и позже сложено: "Солдат спит, служба идет". Да, на счастье князя и несчастье Киприаново, верхоконных заметили со сторожевого шатра.
Семен сказывал потом Ивану, что они как раз резались в зернь в сторожевой избе, а Никифор стоял рядом, уперев руки в боки, и, раздувая ноздри, подсказывал играющим. Самому ему встрять в игру не позволяло воеводское звание. Ворота были отверсты, ибо с полчаса назад выехала ночная сторожа, и потому вереница чужих комонных беспрепятственно достигла города и начала втягиваться в нутро каменного костра, когда кмети, побросавши кости, выбежали из избы. Кто захватил оружие, кто нет. В городе уже восставали высокие звоны колоколов, сейчас толпами пойдут молящиеся в церковь, а потому дело решали мгновения.
— Кто таковы?! — рявкнул Никифор, багровея от своей же оплошки.
— Поезд митрополита всея Руси, владыки Киприана! — требовательно отозвался передовой, не останавливая коня.
— Какого такого владыки… мать! Слазь! — рыкнул Никифор, хватая жеребца под уздцы. — Други!
Семен ринул первый, ухватил за чембур второго седока. Конь плясал, и Семену пришлось напрячь все силы, чтобы стащить всадника с коня. Свалка началась страшная, кусались зубами, били кулаками наотмашь. Те хлестали татарскими ременными нагайками по глазам, упрямо прорываясь в город. Но москвичи озверели: рык, сап, задавленный мат, треск ломающихся копий, конское ржанье и вопли тех, кого душили, катаясь по земи. Снизу вверх по холму, от водяной башни, бежала воротная стража, иные прыгали прямо со стен, в обхват валили седоков на землю. Упирающегося Киприана сам Никифор за пояс сволок с седла. Уже озверев, обеспамятев, крутили полоненым руки арканами, навешивали последние веские оплеухи. Тащили упирающихся коней. Семен не почуял в свалке, от кого и как заработал огромный синяк под глазом.
Новоявленного владыку стремглав, ухватя под руки, пронесли-про-тащили к избе, ввергнув в погреб, куда последовали через минуту избитые Киприановы клирики. Прочих сразу же отволокли к житному двору и заперли тут в пустой амбар. Скоро и Киприановых духовных, по знаку Никифора, вывели и утащили куда-то за терема. Киприана же, сорвав с него богатый дорожный охабень и бобровую шапку, оттащили, пихая в потылицу, к ближним вымолам, где тоже всадили в поруб, в старый ледник, обретавшийся тут незнамо с каких времен.
Семен не поспел воротить в избу, как его, крепко хлопнув по плечу, позвали с собой. Он так и не уведал, приказ ли то был Никифора, али сами смекнули, но ратные ввалились в амбар и, раздавая тычки и зуботычины, почали раздевать Киприанову свиту, стаскивая ноговицы и красные сапоги, отбирая кафтаны и шапки; с кого поснимали и узорные штаны — брать так брать! — оставя разволоченных донага, дрожащих от холода и срама. Семен потом долго хвастал польским кафтаном и красивым седлом, снятым с Киприанова коня. Впрочем, и коней тоже разобрали ратники и, резвясь, целый день гоняли на угорских скакунах, так что к вечеру кони храпели и были в мыле.
Киприан опомнился лишь тогда, когда его, избитого, выволоча из избы, бросили в старый ледник. Было сыро и пакостно. Мокрая гнилая земля липла к тонкой одежде. Он промок и дрожал. Через малое время раздались шаги — воевода Никифор (имя его Киприан выяснил в разговоре), икая, спускался в подвал. Чуялось, что он успел опружить на радостях чару пьяного меду и теперь шел продлить удовольствие от поимки важного супостата. На возвышенные укоризны Киприановы Никифор, взявши руки в бока, захохотал, потом начал ругаться. Ругал он изощренно и всех литвинов поряду, и всю латынскую блядь, и самого Киприана, похотевшего забрать владычный престол на Москве, "латинянина суща", а на возражения Киприановы, что он не латинянин, а православный и русский митрополит, плюнул и опять "с руганью многою" высказал:
— Сука ты, а не митрополит! Литвин поганый! — после чего, громко рыгнув, поворотил к выходу.
Весь день Киприан просидел в старом леднике без хлеба и воды. Болели ушибы, ныла нога, задетая в свалке конским копытом, от непросохшей земли тянуло мерзкою сырью, и он дрожал, не в силах унять колотье во всем теле, дрожал, и плакал, и молил Господа о спасении, и пробовал стучать в дверь, и скребся, выискивая: нет ли какой щели? И многажды впадал в отчаянье, и не ведал уже ни времени, ни исхода какого своему срамному заточению, когда, в позднем вечеру, двери отворились, и тот же Никифор сурово потребовал:
— Выходи… мать!
Застывший Киприан, осклизаясь, полез по ступеням. Его опять грубо подхватили под руки, выволокли в сумерки летней ночи. Оглядясь, он, к вящему стуженью своему, узрел, что и Никифор, и его кмети изо-дели порты, сапоги и шапки его свиты, сидят на дорогих угорских конях, приметно спавших с тела после целодневных потешных скачек. Сердце Киприаново упало, когда стражники вскинули его в седло и, стеснясь конями, повезли куда-то. Копыта гулко и глухо топотали по мосту, подрагивали доски настила, и несчастный Киприан думал о том, что его сейчас или утопят в реке, или убьют, и уже шептал слова покаянного псалма. Но тут всадники остановили коней и расступились. "Все! — понял Киприан, ночуя в горле противную тошноту и спазмы в пустом желудке. — Скорей бы уже, Господи! Прими…" Но его пихнули в шею, и тут только он увидел своих избитых и опозоренных спутников: простоволосых, в заношенной посконине, в лычных оборах и лаптях, они сидели охлюпкою, без седел, на клячах, добытых едва ли не с живодерни, и на такого же одра, правда с деревянным седлом, пересадили и его самого.
Кто-то сильно хлестнул по крупу костлявую Киприанову кобылу.
— Катись к… матери! — присовокупил Никифор, замахиваясь плетью, и вся опозоренная кавалькада затряслась убогою рысью под бранный вой, улюлюканье и хохот княжеских стражников. Их в самом натуральном смысле выпихали в шею из Москвы.