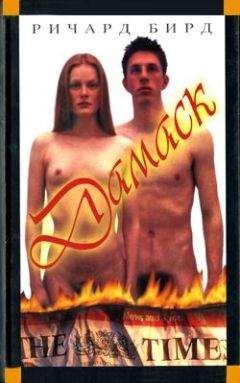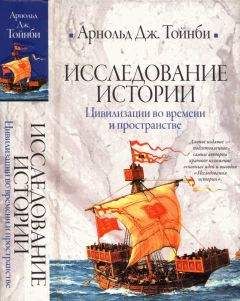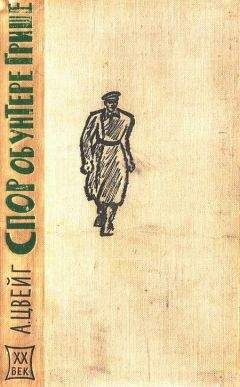Возвращение в Дамаск - Цвейг Арнольд
Рабби Цадок медленно поднялся уже после первой строфы. Стал за спиной чтеца, чтобы заглядывать ему через плечо, недоверчиво, словно желая собственными глазами увидеть, что ему читают здесь как послание его друга де Вриндта. Никаких сомнений: его почерк, голландские слова, произносимые консулом, — слова его друга, страшные кощунства. После последних строк он зажал уши ладонями и вышел вон из комнаты, почти пятясь задом, открыв рот и широко распахнув глаза.
Мистер Робинсон молча встал, чуть ли не парящей походкой шагнул за ним к двери и закрыл ее — закрыл торжественно, как бы закрывая таким образом все дело де Вриндта. Столь же медленно и бесшумно, олицетворение триумфа, он вернулся на свое место за письменным столом, спокойно обвел взглядом собравшихся и спросил, хочет ли кто-нибудь высказаться.
— Я нет, — ответил консул. — Где можно вымыть руки? — Засим он тоже откланялся.
— Для вождя богобоязненных евреев в самом деле немало, — изумленно сказал Эрмин.
Приват-доцент доктор Генрих Клопфер, привлеченный как эксперт в области поэзии, попросил рукопись. Несколько минут всматривался в голландские строки, в которых исходя из немецкого примерно угадывал ритм, выбор слов, звучание, сжатую форму.
Мистер Робинсон тем временем наложил резолюцию на заявление рабби Цадока, спрятал его в папку, насмешливо взглянул на ученого мужа. Тот вышел из задумчивости, сказал, что у него есть дело: библиотека университета располагает собранием рукописей и фотографий знаменитых евреев. Начал его один австрийский ученый, задолго до того, как на горе Скопус приступили к постройке университета, которому оно теперь принадлежит. Нельзя ли ему получить эти листы для собрания — сперва временно, пока он не договорится с наследниками де Вриндта об окончательной судьбе означенных документов?
— Там они будут в надежных руках. Мы с удовольствием их перепишем, чтобы наследники при желании могли подготовить книгу. Этот человек был поэтом. — Доктор Клопфер встал. — Следовало бы догадаться. Мы сбережем эти листы.
Мистер Робинсон ненадолго задумался: кое-что говорило за и совсем немногое — против. Поэт поэтом, но лично он вовсе не стремился хранить подобные кощунства. Двумя быстрыми строчками он набросал расписку, на которой доктор Клопфер с удовольствием поставил свое имя. Получив рукопись с многократно зачеркнутым заголовком, он тщательно завернул ее в газету и попрощался, рассыпаясь в благодарностях.
Эрмин проводил его по коридорам. Оба молча шли по каменным плитам, шаги гулко отдавались от стен.
— Миром правят удар и контрудар, — вдруг сказал доктор Клопфер в продолжение своих безмолвных размышлений, — но, чтобы они его не уничтожили, их надо уравновешивать разумом.
— Вы полагаете, что разум дан нам для этого? — рассеянно спросил Эрмин.
Он не знал, что еще на это сказать, однако странная фраза застряла в памяти. Поэзия и афоризмы не его стихия, но одно он понял: о докторе де Вриндте отныне публично говорить не будут. Наверное, стремление к справедливости действует лишь в стабильные времена, когда усиленно трудятся над строительством культуры, цивилизации. Когда же основы всех этих построек, именуемых цивилизацией, шатаются, наверное, вообще бессмысленно обращать внимание на отдельные судьбы. Невелико удовольствие родиться в эпоху, когда война и послевоенные годы приучили людей видеть в одиночках ничтожные пушинки вроде тех, что разлетаются с отцветшего одуванчика, и дома, и повсюду.
Такие вот чувства с особой силой захлестнули Эрмина однажды во второй половине дня, когда он, спрятав глаза от яркого солнца под темными очками, машинально свернул у Дамасских ворот налево и очутился у обгоревшего остова дома, который был жилищем забытого теперь человека. Н-да, размышлял он, глядя на черные остатки балок и руины стен и вдыхая запах гари, который пожарища распространяют еще долгие недели, — н-да, стихия думала как администрация, как любой человек, как весь мир после войны. Нет больше господина де Вриндта, горсть золы осталась от всего, что ему принадлежало, смрадное дыхание бренности. Если память ему не изменяет, у него нет ни строчки, написанной рукою этого человека, даже тщательно сохраненный фрагмент письма из корзины для бумаг и тот написан на машинке. Он не раз собирался попросить у него экземпляры тонких сборников его стихов, а теперь все — опоздал! Может, еще удастся раздобыть эти книги, а может, их раскупили и после смерти автора более не переиздадут. Их содержание лучше подготовило бы его к тому, что стало козырем мистера Робинсона к уничтожению покойного: «Принесите нам полностью отработанное дело де Вриндта, и мы будем только рады. Надежность, признание, улики — короче, исключение любого провала. Но с „вероятно“ и „почти наверняка“ оставайтесь дома, друг мой. Никакого нового ослабления нашего престижа, ясно?» Да, такие удачи, пожалуй, бывали, однако ему, Эрмину, они не светили — по крайней мере, в деле де Вриндта…
Он постарался мысленно нарисовать на развалинах лицо покойного, слегка одутловатый овал, прикрытый сверху кипой, печальные глаза, выпяченную нижнюю губу, редкую рыжеватую бородку на щеках и подбородке — кажется, похож. Возможно, дома сумеет закрепить этот контур, а возможно, и нет. Он любил порисовать карандашом, но нуждался при этом в живой натуре. Вряд ли получится с портретом господина де Вриндта; что ж, ну и ладно, придется и с этим примириться. В конце концов, никто не выбирает себе время жизни.
Неприметны искушения и знаки, подбирающиеся к человеку, чтобы все изменить. Однажды утром среди почты Эрмина обнаружилось письмецо некой дамы, приглашение на чай от госпожи Юдифи Кавы. Он, конечно, очень занят, писала она, но, быть может, все же найдет время вечером в воскресенье заглянуть к ней в Тальпиот; она надеется, что он не откажет ей в услуге. Эрмин подумал: ладно, почему бы и нет. Зачем отказывать даме? Он помнил ее, прелестная, очаровательная, родом из России, разумеется, еврейка; вечер вполне может быть приятным, куда лучше скучного воскресенья в скучном клубе.
Госпожа Юдифь Кава встретила его так, как было принято у непринужденных молодых женщин этого послевоенного десятилетия, — в белом домашнем костюме с мешковатыми брюками, коротким жилетом и просторной блузой с широкими рукавами. Блестящие черные волосы до плеч, точно ухоженная курчавая грива, обрамляли узкую головку, а продолговатые глаза смотрели на гостя — не забудешь. Эрмин дважды разговаривал с ней в Иерусалиме, она тогда была в вечернем платье, темном и простом, и дважды видел ее в Хайфе, в сопровождении того инженера, который не был ее мужем и очень ему нравился. Симпатия к мистеру Заамену распространилась и на очаровательную женщину, которая, по-товарищески встретив его и с изяществом хозяйки дома подав чай, разговаривала с ним как умный юноша. Они сидели на выходящей на восток террасе, затененной стеною дома, взгляд скользил по белым холмам, по наполненным синими тенями ущельям до красноватых склонов моавитских гор. Если стать слева у перил, то вдалеке внизу виднелась сверкающая синяя гладь в форме дуги: кусочек Мертвого моря, в добрых сорока километрах отсюда по прямой; прежде солидная шести-семичасовая поездка верхом, а теперь благодаря автомобилю окрестности Иерусалима. Эрмин невольно залюбовался этой картиной, потом вернулся в матерчатый шезлонг; его пиджак давно висел на дверной ручке, госпожа Юдифь не забыла даже приготовить плечики. В белой рубашке поло, белых брюках и белых ботинках Эрмин походил на спортивного знакомца молодой дамы, которая в свой черед походила на прелестную смышленую европейку, каких теперь во множестве встречаешь в крупных городах. Война и ее последствия принесли им свободу, уверенность в себе, физическую тренировку, раскованность, которая делала общение с мужчинами непринужденным, не лишая его очарования.
— Вам требуется от меня услуга, — в конце концов напомнил Эрмин, — я охотно сделаю что-нибудь для вас.
— Услуга не совсем обычная, — тотчас ответила она, — причем, скорее, в интересах моего мужа, нежели в моих.