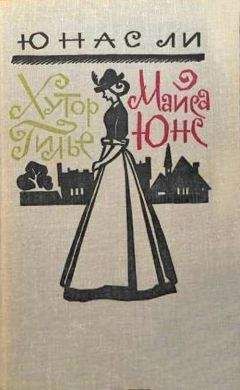Юрий Мушкетик - Семен Палий
Абазин рысью выехал на центр своего полка, осадил коня, упруго, не по летам, привстал в стременах. В поднятой руке старого полковника блеснул пернач.
— Братья! Не дадим Сенявскому убивать людей наших, не дадим обижать матерей и детей своих. Вспомним славного рыцаря, батька казацкого Хмеля. Не посрамим славы казацкой, умрем или пробьемся к нашему гетману Палию. За волю! За веру! За правду!
Конь понес его по заснеженному полю. Две лавы, будто две тяжелые волны, ударились одна о другую, смешались и завихрились в кипени боя. На снегу пятнами проступила кровь. Отчаянно рубились казаки, стараясь прорвать вражескую лаву. В двух местах им удалось пробиться, но густые ряды врагов снова сомкнулись, и прорвавшиеся казаки вернулись на помощь к товарищам.
Ветер подул сильнее, присыпая сухим снегом кровавые пятна. Силы были слишком неравны: на одного абазинского казака приходилось по пять вражеских солдат и ополченцев.
Абазин бился в самом горячем месте, ближе к левому флангу. Его окружала лишь горстка казаков, остальные уже полегли. Одиночки, не выдержав, вырывались из сабельного смерча и удирали полем. Абазин тяжело дышал от усталости. Он на миг остановился и оглядел поле боя; полковник понимал; дело безнадежно.
Но долго наблюдать не пришлось: на него мчались два рейтара. Левой рукой Абазин выдернул из седельной кобуры последний заряженный пистолет и выстрелил в переднего. Тот раскинул руки, сполз набок и тяжело упал на землю, зацепившись ногой за стремя. Его конь испуганно захрапел и поволок всадника по снегу. Второй дернул повод вправо и проскочил мимо, потом повернул и погнал коня на Абазина. Абазин тоже повернул коня на месте, вскинул руку с саблей, готовясь принять удар. В это мгновение что-то больно ударило его в бок. Он рухнул на гриву, успев прикрыться саблей. На него уже летели гусары, гнавшиеся за несколькими казаками. Конь Абазина, не чувствуя хозяйской руки, сорвался с места и поскакал вслед за несущимися по полю казацкими лошадьми. Полковник старался не выпасть из седла, но силы оставили его. Он повалился набок и упал на землю. Теряя сознание, он увидел мелькающие над головой копыта гусарских коней.
Холодный снег привел его в чувство, но он не открывал глаз. Что-то коснулось его лица. Абазин с трудом приподнял веки и увидел голову своего коня.
Сенявский разослал солдат и ополченцев искать Абазина, а сам остался ждать в карете. Абазина нашли быстро, ладыжинские дворяне положили его в сани и привезли к Сенявскому. Тот осведомился только, жив ли полковник, и повелел везти его в Ладыжин. Пулевую рану в боку перевязали, чтоб не умер до казни. Пока на майдане ладили кол, Абазина положили на снег у тына.
— Что, хлоп, мягкие наши перины? — ткнул его сапогом в бок Потоцкий.
Абазин вдруг приподнялся на локте, и на его всегда веселом лице отразился такой гнев, что Потоцкий даже отступил на шаг, но, оглянувшись на шляхтичей, в оправдание своего минутного страха ударил старого полковника сапогом в лицо.
На майдан согнали ладыжинских крестьян и пленных. Абазина за ноги поволокли по снегу к вкопанному в мерзлую землю колу. Два рейтара подняли его на ноги, палач засучил рукава и взмахнул секирой. Абазину отрубили левое ухо, затем правое. Даже стон не сорвался с уст Абазина. Только с нижней прокушенной губы сочилась кровь.
— Придет и на вас кара! Отомсти, Семен!
Голова его упала на грудь. Она поднялась снова, когда Абазина уже посадили на кол, но теперь глаза смотрели вокруг мутным, невидящим взглядом. Кругом стояли крестьяне, охваченные ужасом.
Тут же началась расправа и над ними. Местные паны ходили в толпе и вытаскивали тех, кого считали непокорными, причастными к бунту. Каждому рубили левое ухо.
Запылал подожженный со всех сторон Ладыжин. Майдан заволокло дымом. Тогда рейтар, поставленный на страже у кола, подбежал к Абазину и ударом ножа в грудь оборвал муки полковника, а сам исчез за хатами.
…Всюду, где проходил Сенявский с войском, оставались только пепелища, на которых в долгие зимние ночи выли собаки. Убогий, жалкий крестьянский скарб и скот паны отправляли в свои поместья. Люди бежали в Молдавию, за Днепр, в Белую Церковь, на Буг. Такие города, как Могилев, Козлов, Ульянцы, Калюс и многие другие, совсем опустели. Паны поняли, что зашли слишком далеко, скоро некому будет на них работать, и несколько поуменьшили кары: теперь левое ухо рубили не по одному подозрению, а только тем, кто доподлинно принимал участие в восстании.
Самусь снова обосновался в Богуславе, Искра — в Корсуни. Палий день и ночь укреплял Белую Церковь. Сенявский расквартировал на зиму свои войска по городам и окрестным селам.
Около половины своего огромного полка Палий разбил на небольшие отряды и разослал по Брацлавщине и соседним волостям. Бои начались в Хмельницком старостве, затем перебросились и в другие. В Стрижевке крестьяне ударили ночью в колокол и вырезали расквартированных там жолнеров. Даже Ладыжин полякам не удалось удержать: с Умани нагрянули сотни Палия и в короткой ночной схватке рассеяли местный отряд.
Палий освобождал город за городом, село за селом. Он выгнал поляков из всего Полесья и дошел до Уши. На помощь к нему прибыли запорожские «гультяи», как называли на Сечи бедноту, хотя старшина на своей раде и запретила помогать Палию.
Сенявский повернул свое огромное войско и стал поспешно отходить ко Львову, послав королю успокаивающее письмо, в котором писал, что, дескать, не угасли еще только отдельные бунты, «железо подавило огонь». Однако король сам видел зарево этого мнимо подавленного огня и снова просил Петра унять Палия. Петр, как и прежде, ответил, что казаки Палия — королевские подданные и он против них что-либо учинить не вправе. А тем временем отряды Палия продолжали теснить полки Сенявского. Последний еще раз попытался сдержать наступление, но и эта попытка закончилась неудачей. Тогда Сенявский послал гонцов с приказом готовить город к обороне.
Глава 21
НЕВЕРНАЯ ЛЮБОВЬ
Мазепа смачно зевнул, прикрывая рот рукою:
— Хватит на сегодня. Столько дел и сам чорт не переделает. Закончите с Кочубеем.
— Его уже второй день нет, — ответил Орлик.
— Ничего, появится, тогда и закончите… А может, проедем к нему? Давно я там не был, у Кочубеихи настоек не пил. Или вы еще до сих пор друг на друга злобу таите?
— Какая там злоба? Так, под хмельком немного погрызлись. Сейчас скажу джуре, чтоб запрягали.
Кочубея застали в постели.
— Ого, столько спать — можно и суд господень проспать… не только свой, — сказал после приветствия Мазепа.
— Заболел я немного, второй день лежу. Вы садитесь.
Кочубеиха пододвинула мягкие стулья.
— Не перепил, часом? — будто украдкой от хозяйки спросил Мазепа, хитро посмотрев на Кочубея.
— Нет, ветром прохватило.
— Каким — прямо из сулеи?.. Ну, а если не пил, так выпей чарку-другую варенухи — и все как рукой снимет. Не то еще месяц лежать будешь. А у нас с Орликом уже чубы от работы взмокли.
— Да, страдная пора подошла. Одной корреспонденции столько, что за полдня не перечитаешь. Сегодня с Правобережья три письма пришло, — добавил Орлик.
— От Палия или от кого другого?
— Палий теперь редко пишет. Да я и рад: без моего ведома начал, пусть и выпутывается как знает. Я ему в самом начале передавал: не вмешивайся в эту кашу, сиди как сидел в своем Фастове. Где там: не сидится ему, батькой хлопы, вишь, выбрали. Не булавы ли гетманской захотелось?
Кочубей устроился получше, чтоб удобней было разговаривать:
— Две недели назад Самусь прислал письмо, пишет, что старост и шляхту выгнали из всех городов. И тут же просится на Левобережье. Понимаешь, куда гнет? Если все будет хорошо и ему удастся взять Белую Церковь, тогда он дальше пойдет, — так Самусь и на раде у себя говорил, я достоверно знаю. А на случай неудачи хочет обеспечить себе со своими голодранцами тихий уголок у нас, чтоб потом все беды на мою голову посыпались. А кто его этому научает? Конечно, Палий. Только нас на мякине не проведешь! Пусть и думать бросит про Левобережье. И то еще надо сказать, — пусти их сюда с полками, никому спасения не будет.
— Вчера на рубеже караулы поставили, — добавил Орлик, — не то беды не оберешься. Под Белой Церковью — Палий, а Самусь свою саранчу по Правобережью распустил. Как туча, ползут. Что ни день, то новые появляются. Лещинская, она мне родней приходится, пишет, что от имения в Илинцах щепки не осталось, — свои же хлопы целый полк навели.
— Ну, а на Подолии тихо?
— Как бы не так! Нашел затишье! Там самые буйные хлопы. Земля под татарами сколько лет была, всего года три, как ее опять заселили. В двадцати волостях панов перебили, а пасынок Палия Семашко хлопам вечную волю оглашает.
В комнату вошла Кочубеиха: