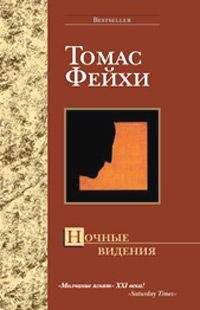Дмитрий Мережковский - Юлиан Отступник
Вакханки пели, указывая на молодого императора:
Вакх, ты сидишь окруженный
Облаком вечно блестящим.
Тысячи голосов подхватывали песнь хора из «Антигоны»:
К нам, о, чадо Зевеса! к нам, о, бог-предводитель Пламенеющих хоров Полуночных светил] С шумом, песнями, криком И с безумной толпою Дев, объятых восторгом, Вакха славящих пляской,К нам, о радостный бог.
Вдруг Юлиан услышал смех, женский визг и дребезжащий старческий голос.
— Ах ты, цыпочка моя!..
Это жрец, шаловливый старичок, ущипнул хорошенькую вакханку за голый белый локоть. Юлиан нахмурился и подозвал к себе старого шута. Тот подбежал к нему, подплясывая и прихрамывая.
— Друг мой, — шепнул Юлиан ему на ухо, — сохраняй пристойную важность, как возрасту и сану твоему приличествует.
Но жрец посмотрел на него с таким удивленным выражением, что Юлиан невольно умолк.
— Я человек простой, неученый, — осмелюсь доложить твоему величеству, философию мало разумею. Но богов чту. Спроси, кого угодно. Во дни лютых гонений христианских остался я верен богам. Ну, уж зато, хэ, хэ, хэ! как увижу хорошенькую девочку,-не могу, вся кровь взыграет! -Я ведь старый козел…
Видя недовольное лицо императора, он вдруг остановился, принял важный вид и сделался еще глупее.
— Кто эта девушка?-спросил Юлиан.
— Та, что несет корзину со священными сосудами на голове?
— Да.
— Гетера из Халкедонского предместья.
— Как? Ужели допустил ты, чtoбы блудница касалась нечистыми руками священнейших сосудов бога?
— Но ведь ты же сам, благочестивый Август, повелел устроить шествие. Кого было взять? Все знатные женщины — галилеянки. И ни одна из них не согласилась бы идти полуголой на такое игрище.
— Так, значит, — все они?..
— Нет, нет, как можно! Здесь есть и плясуньи, и комедиантки, и наездницы из ипподрома. Посмотри, какие веселые, — и не стыдятся! Народ это любит. Уж ты мне поверь, старику! Им только этого и нужно… А вот и знатная.
Это была христианка, старая дева, искавшая женихов.
На голове ее возвышался парик, в виде шлема галерион, из знаменитых в то время германских волос, пересыпанных золотою пудрою; вся, как идол, увешанная драгоценными каменьями, натягивала она тигровую шкуру на свою иссохшую старушечью грудь, бесстыдно набеленную, и улыбалась жеманно.
Юлиан с отвращением всматривался в лица.
Канатные плясуны, пьяные легионеры, продажные женщины, конюхи из цирка, акробаты, кулачные бойцы, мимы — бесновались вокруг него.
Шествие вступило в переулок. Одна из вакханок забежала по дороге в грязную харчевню; оттуда пахнуло тяжелым запахом рыбы, жареной на прогорклом масле. Вакханка вынесла из харчевни на три обола жирных лепешек и начала их есть с жадностью, облизываясь; потом, окончив, вытерла руки о пурпурный шелк одежды, выданной для празднества из придворной сокровищницы.
Хор Софокла надоел. Хриплые голоса затянули площадную песню.
Юлиану все это казалось гадким и глупым сном.
Пьяный кельт споткнулся и упал; товарищи стали его подымать. В толпе изловили двух карманных воришек, которые отлично разыгрывали роль фавнов; воришки защищались; началась драка. Лучше всех вели себя пантеры, и они были красивее всех.
Наконец шествие приблизилось к храму. Юлиан сошел с колесницы.
«Неужели, — подумал он, — предстану я перед жертвенник бога со всей этой сволочью?» Холод отвращения пробегал по его телу. Он смотрел на зверские лица, одичалые, истощенные развратом, казавшиеся мертвыми сквозь белила и румяна, на жалкую наготу человеческих тел, обезображенных малокровием, золотухой, постами, ужасом христианского ада; воздух лупанаров и кабаков окружал его; в лицо ему веяло, сквозь аромат курений, дыхание черни, пропитанное запахом вяленой рыбы и кислого вина. Просители со всех сторон протягивали к нему папирусные свитки.
— Обещали место конюха, — я отрекся от Христа и не получил!
— Не покидай нас, блаженный кесарь, защити, помилуй! Мы отступили от веры отцов, чтобы тебе угодить.
Если покинешь, куда пойдем?
— Попали к черту в лапы!-завопил кто-то в отчаянии.
— Молчи, дурак, чего глотку дерешь!
А хор снова запел:
С шумом, песнями, криком,
И с безумной толпою
Дев, объятых восторгом,
Вакха славящих пляской,
К нам, о радостный бог!
Юлиан вошел в храм и взглянул на мраморное изваяние Диониса: глаза его отдохнули от человеческого уродства на чистом облике божественного тела.
Он уже не замечал толпы; ему казалось, что он один, как человек, попавший в стадо зверей.
Император приступил к жертвоприношению. Народ смотрел с удивлением, как римский кесарь. Великий Первосвященник, Pontifex Maximus, из усердия делал то, что должны делать слуги и рабы: колол дрова, носил вязанки хвороста на плечах, черпал воду в роднике, чистил жертвенник, выгребал золу, раздувал огонь.
Канатный плясун заметил шепотом на ухо соседу:
— Смотри, как суетится. Любит своих богов!
— Еще бы, — заметил кулачный боец, переодетый в сатира, поправляя козлиные рога на лбу, — иной отца с матерью так не любит, как он — богов.
— Видите, раздувает огонь, щеки надул, — тихонько смеялся другой. — Дуй, дуй, голубчик, ничего не выйдет.
Поздно: твой дядюшка Константин потушил!
Пламя вспыхнуло и озарило лицо императора. Обмакнув священное кропило из конских волос в серебряную плоскую чашу, брызнул он в толпу жертвенной водою.
Многие поморщились, иные вздрогнули, почувствовав на лице холодные капли.
Когда все обряды были кончены, он вспомнил, что приготовил для народа философскую проповедь.
— Люди!-начал он.-Бог Дионис-великое начало свободы в наших сердцах. Дионис расторгает все цепи земные, смеется над сильными, освобождает рабов.
Но он увидел на лицах такое недоумение, такую скуку, что слова замерли на губах его; в сердце подымалась смертельная тошнота и отвращение.
Он подал знак, чтобы копьеносцы окружили его. Толпа расходилась, недовольная.
— Пойду прямо в церковь и покаюсь! Может быть, простят, — говорил один из фавнов, срывая со злостью приклеенную бороду и рога.
— Не за что было и душу губить!-заметила блудница с негодованием.
— Кому-то душа твоя нужна, — трех оболов за нее не Дадут.
— Обманули!-завопил какой-то пьяница.-Только по губам помазали. У, черти окаянные!
В сокровищнице храма император умыл лицо, руки, сбросил великолепный наряд Диониса и оделся в простую свежую белую, как снег, тунику пифагорейцев.
Солнце заходило. Он ожидал, когда стемнеет, чтобы незамеченным вернуться во дворец.
Из задних дверей храма Юлиан вошел в заповедную рощу Диониса. Здесь царствовала тишина; жужжали только пчелы, звенела тонкая струйка ключа.
Послышались шаги. Юлиан обернулся. То был Друг его, один из любимых учеников Максима, молодой александрийский врач Орибазий. Они пошли вместе по заросшей тропинке. Солнце пронизывало широкие золотистые листья винограда.
— Посмотри, — сказал Юлиан с улыбкой, — здесь еще жив великий Пан.
Потом он прибавил тише, опуская голову:
— Орибазий, ты видел?..
— Да, — ответил врач, — но, может быть, ты сам виноват, Юлиан? Чего ты хотел?
Император молчал.
Они подошли к обвитой плющом развалине: это был маленький, разрушенный христианами, храм Силена. Обломки валялись в густой траве. Уцелела лишь одна неопрокинутая колонна, с нежной капителью, похожей на белую лилию. Отблеск заходящего солнца потухал на ней.
Они сели на плиты. Благоухали мята, полынь и тмин.
Юлиан раздвинул травы и указал на древний сломанный барельеф:
— Орибазий, вот чего я хотел!..
На барельефе была изображена древняя эллинская феория — священное праздничное шествие афинян.
— Вот чего я хотел-этой красоты! Почему, день ото дня, люди становятся все безобразнее? Где они, где эти богоподобные старцы, суровые мужи, гордые отроки, чистые жены в белых развевающихся одеяниях? Где эта сила и радость? Галилеяне! Галилеяне! Что вы сделали?..
Глазами, полными бесконечной грусти и любви, он смотрел на барельеф, раздвинув густые травы.
— Юлиан, — спросил Орибазий тихо, — ты веришь Максиму?
— Верю.
— Во всем?
— Что ты хочешь сказать?
Юлиан поднял на него удивленные глаза.
— Я всегда думал, Юлиан, что ты страдаешь той же самой болезнью, как и враги твои, христиане.
— Какою?
— Верою в чудеса.
Юлиан покачал головой:
— Если нет ни чудес, ни богов, вся моя жизнь безумие. — Но не будем говорить об этом. А за мою любовь к обрядам и гаданиям древности не суди меня слишком строго. Как тебе это объяснить, не знаю. Старые, глупые песни трогают меня до слез. Я люблю вечер больше утра, осень — больше весны. Я люблю все уходящее. Я люблю благоухание умирающих цветов. Что же делать, друг мой?
Таким меня создали боги. Мне нужна эта сладкая грусть, этот золотистый и волшебный сумрак. Там, в далекой древности, есть что-то несказанно прекрасное и милое, чего я больше нигде не нахожу. Там-сияние вечернего солнца на пожелтевшем от старости мраморе. Не отнимай у меня этой безумной любви к тому, чего нет! То, что было, прекраснее всего, что есть. Над моею душою воспоминание имеет большую власть, чем надежда.