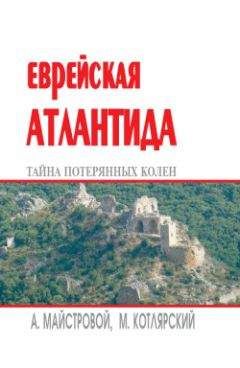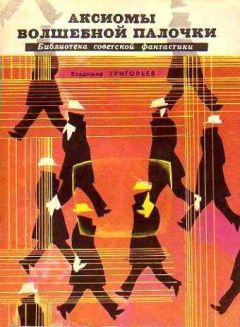Георгий Марков - Строговы
– Не признаешь?
– Мартын, ты ли это, браток?
– Я, Матвей, – попробовал улыбнуться Мартын и, опираясь на костыли, стал подниматься с лавки.
Матвей подхватил его, обнял, потом отступил на шаг.
– Эх, брат ты мой, что от тебя осталось! Как же теперь жить-то будешь?
– Вот как хошь, так и живи. На одной ноге по пашне не попрыгаешь.
Мартын поник головой, стоял, расставив костыли, и вид у него был жалкий, беспомощный. Матвей усадил его на лавку и сам сел рядом. Мужики, покачивая головами, разошлись по своим местам.
Матвей заказал чаю, колбасы, хлеба, немного водки, Мартын подбодрился и много рассказал интересного из того, что хотелось знать Матвею.
Волченорских мужиков в этот день на постоялом дворе не оказалось. Прощаясь с приятелем, Матвей вынул четыре красненькие и протянул Мартыну.
– Держи, служба. Расходуй тут на еду до попутчиков, а остальные передай жене. Не пропьешь?
– Что ты, Матвей, – с обидой проговорил Мартын. – Все до копейки отдам Анне, у меня есть еще немного денег. А пить мне и нельзя много-то, доктора запретили…
Выйдя с постоялого двора, Матвей прямо направился к Соколовскому, чтобы рассказать ему о своей встрече с инвалидом, а главное – передать, что ость теперь и в деревне свои люди.
3
Жарким июльским днем Матвей после ночного дежурства поднялся поздно. Умылся. Перед обломком зеркала причесал густые русые волосы, ножницами чуть укоротил отросшие усы и сел пить чай.
Вдруг в дверь постучали. Подумав, что это дурачится Антон Топилкин, мастер на шутки, он крикнул:
– Дури, дури там больше, чай как раз и простынет!
Дверь легонько скрипнула, и женский голос спросил:
– Можно?
Матвей обернулся. В узкое отверстие немного приоткрытой двери на него смотрели большие синие глаза. Он вскочил с табуретки и, смущенный беспорядком, царившим в комнате, несколько секунд не знал, за что приняться: приглашать ли неожиданную гостью в комнату или схватить веник и замести сор в угол.
Ольга Львовна вошла, не дождавшись его приглашения. Она сделала вид, что не замечает ни беспорядка в комнате, ни смущения хозяина, и, поздоровавшись, присела на табуретку.
– Мы одни? А стены у вас не имеют ушей? – спросила она а улыбнулась просто и хорошо…
И от этой шутки, от теплоты, с какой она произнесла эти слова, Матвею стало легко, и смущение исчезло.
– Не бойтесь. Стены надежные.
Ольга Львовна вынула из сумочки листок-прокламацию и протянула Матвею.
– Вот то, что вы просили. Федор Ильич советует распространить.
– «Про царя, про войну, про нужду народную», – тихо читал Матвей.
– Дайте спички.
Матвей подал, и через секунду листок вспыхнул в его руке красноватым пламенем.
Ольга Львовна передала Матвею адрес квартиры, где ему и Антону предстояло вечером получить листовки, сообщила пароль и собралась уходить.
– До свидания, – проговорила она, но, сделав несколько шагов к двери, остановилась. – Если меня здесь заметили и у вас спросят, кто я, что вы скажете?
Матвей окинул ее глазами. Она стояла перед ним в длинном темном платье с глухим, высоким воротником, подпираемым косточками до самых ушей, в большой черной шляпе.
– Я скажу, что приходила жена брата, – проговорил Матвей, – брат, мол, захворал, навестить его звала.
– Брат у вас кто?
– Лавочник.
Она кивнула головой.
– Чудесно! Я, кажется, в этом наряде на лавочницу и похожу. – Она комично приподняла плечи, взмахнула шелковой сумочкой на длинном шнуре и вышла.
Матвей прикрыл за ней дверь и, возвратясь к столу, подумал:
«Ой, не попадись, голубушка! Глаза-то у тебя больно приметные. Синь так и брызжет».
Вечером Матвей с Антоном получили по большой пачке листовок.
Матвей быстро справился с заданием. На постоялом дворе купца Голованова ему посчастливилось встретить жену Мартына Горбачева, приезжавшую в город за грошовой солдатской пенсией мужу, и двух фронтовиков из Жирова и Балагачевой, возвращавшихся домой с белыми билетами. Половину листовок Матвей послал Мартыну с запиской, остальные поделил между фронтовиками. Можно было не сомневаться, что фронтовики не подведут и листовки попадут куда надо.
Антон ночь простоял на вышке, а ранним утром вышел на тракт и роздал листовки крестьянам, возвращавшимся из города в дальние деревни. Отдав последнюю листовку неграмотному мужику с наставлением «обязательно прочесть на сходке», Антон спрыгнул с телеги. Мимо галопом пронеслась полусотня казаков. Антон посмотрел им вслед и по-разбойничьи оглушительно свистнул. Лошадь у мужика шарахнулась в сторону.
– Тпру-у! – крикнул мужик, останавливая лошадь, и выругался: – Дьявол вас носит, окаянных!
– А не любишь ты, дядя, я вижу, чубатых, – рассмеялся Антон.
– За что их любить-то, – проворчал мужик. – Один моего паренька так саданул нагайкой по голове, нечистая сила, аж до самой кости рассек. В больницу вот попроведать ездил.
– Где работает паренек-то?
– В депо. Забастовка, вишь, у них там идет. Все чугунку хотят остановить.
– Знаю, дядя. Там у меня крестный живет. И твоего паренька, сдается мне, знаю. Ну, бывай здоров, да не забудь о сходке, – сказал Антон и быстро зашагал к городу.
У самого въезда в город, завернув за угол какого-то постоялого двора, Антон наткнулся на двух полицейских. Клинками шашек они сдирали с забора крепко наклеенные прокламации, – точь-в-точь такие же, как сам Антон только что раздавал мужикам. Сердце у Антона дрогнуло от радости. Значит, не один он хорошо поработал нынче.
Дома Антон преспокойно напился чаю и собрался отдыхать. Только снял сапоги, вбегает посыльный из конторы.
– Топилкин, к начальнику!
У Антона заныло сердце. Почувствовал он, что стряслось неладное.
Аукенберг сидел в кресле за большим письменным столом. Антон козырнул и, кинув взгляд на стол начальника, увидел листовку.
«Предал кто-то», – вспоминая все прошедшее утро, подумал он.
Горько было сознавать, что не оправдал он доверия и не сделал порученного дела аккуратно, как другие. Мысли об этом вытеснили и подавили страх за себя.
«Сам сгибну, а товарищей не выдам», – мысленно подбадривал себя Антон.
А начальник нарочно медлил, бросал на вышкового надзирателя испытующие взгляды и все шевелил пальцами, точно что-то ощупывал ими.
– Ты что же, Топилкин, давно у социалистов служишь? Много они тебе платят за распространение прокламаций? – тихо проговорил наконец Аукенберг.
– Я что-то не пойму, ваше высокоблагородие, о чем вы? О каких прокламациях? – сказал Антон подчеркнуто грубовато.
– Что ж, по-твоему, эта листовка сама на постовую вышку залетела?
Начальник не подозревал, насколько важно было знать это Антону. Тот вмиг сообразил, что его не предали, а подвел он себя сам, обронив листовку ночью, когда перекладывал из сапог за пазуху.
– Дык эту бумажку я сам бросил на вышке, ваше высокоблагородие, – проговорил Антон, стараясь всем своим видом убедить Аукенберга, что он не видит в этом ничего предосудительного.
– Сам бросил? Я в этом не сомневаюсь! – возмутился начальник. – А ты знаешь, что это за бумажка? Ты ее читал?
– Никак нет. Мы только по-крупному читать можем, а там дюже мелко. В глазах рябит.
Антон приоткрыл свои толстые губы и немигающими глазами уставился на разгневанного начальника. Лицо его приняло тупое выражение, как у дурачка Андрюхи Клинка.
– Но позволь, где же ты взял эту листовку? – строго спросил Аукенберг. – Не с неба же она к тебе свалилась?
Антон, выдерживая свою роль до конца, засмеялся, хотя в вопросе начальника не было ничего смешного, и забормотал равнодушно, с улыбкой:
– Знамо, она, эта бумажка, не с неба слетела. Что верно, то верно. А только я ее сам бросил. Их на Болотной видимо-невидимо валялось. Вижу, народ хватает, ну и я одну прихватил…
Аукенберг вскочил с кресла и, стукнув кулаком об стол, закричал:
– Врешь, каналья! Эту прокламацию тебе дали социалисты. Кто дал? Говори!
В это время в контору вошел Матвей Строгов. Через неплотно прикрытую дверь кабинета он слышал крик начальника.
Матвей нагнулся к уху делопроизводителя, спросил:
– Кто у начальника?
– Топилкин с прокламацией влопался. Говорит, что поднял на Болотной.
«Надо выручать», – решил Матвей и направился к дверям кабинета.
Начальник взволнованно ходил за столом, и багровая щека у него подергивалась нервным тиком.
– Вместо чистосердечного признания, – говорил он, задыхаясь от волнения, – как это требуется от тебя по долгу службы, ты начинаешь лгать… лгать без зазрения совести!
– Но он не врет, ваше высокоблагородие, – самовольно войдя в кабинет, проговорил Матвей.
Аукенберг остановился с приподнятой рукой.
– Прокламацию Топилкин поднял на улице, и я ему велел отдать ее вам, – торопился высказаться Матвей, опасаясь, что начальник выгонит его прежде, чем он успеет это сказать.