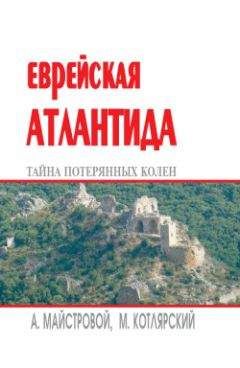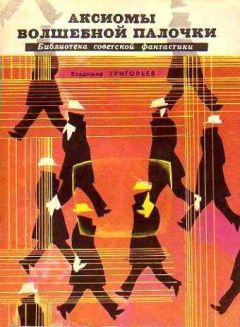Георгий Марков - Строговы
«Вот они что задумали!» – пронеслось в голове Матвея, и ему захотелось пролезть сквозь толпу и присоединиться к демонстрантам.
Забыв о своей надзирательской форме, он принялся расталкивать людей, но чей-то истошный возглас остановил его:
– Казаки!
От этого возгласа толпа подалась назад, Матвея прижали к перилам.
Казаки мчались по другой стороне набережной. С высокого моста, который был на изгибе реки и отделялся от улицы площадью, было хорошо видно казаков и демонстрантов.
Из-под копыт сытых, резвых лошадей брызгами разлетался избитый подковами снег. Взнузданные лошади всхрапывали, выгибали шеи, до красноты раздували мягкие ноздри.
Живая лава огромным клубком катилась навстречу демонстрации. У Матвея перехватило дыхание. Перед отрядом казаков колонна демонстрантов казалась беззащитной. Но, точно по какому-то сговору, демонстранты крепче сомкнулись, а знаменосцы вскинули выше красные полотнища.
Порывы холодного ветра подхватывали кумач флагов и рвали его ввысь, точно хотели показать всему городу.
Но вдруг пение оборвалось, в рядах демонстрантов произошло замешательство. Вслед за этим послышались выстрелы и крики:
– Полицейские!
Эти возгласы показались Матвею странными. Он не видел полицейских. Но выстрелы участились, и он понял, что полицейские, переодетые в штатское платье, напали на демонстрантов с тыла.
Казаки, как будто ожидавшие этого, рванулись вперед. Напуганные обыватели кинулись врассыпную, сшибая друг друга. А у демонстрантов с казаками и полицейскими завязалась ожесточенная драка.
Казаки неистовствовали. В их руках мелькали шашки и плети.
Особенно свирепствовал один чубатый казак. Лошадь его подымалась на дыбы, подминала под себя людей, а он хлестал плетью направо и налево.
У Матвея будто что-то загорелось в груди. Расталкивая людей, он побежал вперед, отстегивая кобуру револьвера.
«Смажу сейчас гада!» От возбуждения кровь стучала в висках.
Но кто-то из демонстрантов опередил Матвея: озверевший казак подпрыгнул на седле, покачнулся, схватился руками за голову и упал с лошади.
Демонстранты, прорвав кольцо полицейских и казаков, бросились во дворы и переулки. Не прошло и четверти часа, как площадь опустела. Матвей вернулся домой и долго не мог успокоиться. Ему хотелось поделиться своими впечатлениями с Антоном, а тот, как назло, не возвращался.
Матвей ходил по комнате, ложился на кровать, вставал и опять ложился.
Наконец, уже в сумерках, пришел Антон. Голова у него была перевязана белой марлей, он с трудом стоял на ногах.
Матвей помог товарищу раздеться и, когда тот лег на кровать, спросил его:
– Ты был там?
Антон, морщась от боли, указал глазами на дверь. Матвей закрыл дверь на крючок, присел к нему на кровать и тихо сказал:
– Тебя сегодня же посадят. Надо бежать!
– Чудак ты! Я был переодет и, видишь, усы и бороду сбрил.
Матвей согласился: в таком виде и он не узнал бы Антона.
– Убитые есть? Соколовский как? – спросил он.
– Ничего еще не знаю, – со стоном сказал Антон и, помолчав, продолжал: – Если, Матюха, кто пронюхает насчет моей головы, говори, что по пьяной лавочке наклепали.
Матвей посмотрел ему в глаза и улыбнулся дружески, тепло.
– Ты знаешь, Матюха, – встревоженно зашептал Антон, – когда они налетели на нас, у меня будто пожар начался внутри. Рванулся я вперед, и сам не знаю, откуда силы взялись. Подыму руку, тряхну – летит из седла. Ну, думаю, получай сполна! Не заметил, как и голову рассекли. Эх, брат, людей бы нам побольше, мы бы не этакую кашу заварили…
– А мне не сказал, черт рыжий! – прервал его Матвей.
– Тебе нельзя. Ты в другом деле нужен. А молчать обязан, как член партии.
– Ох, черт! – воскликнул Матвей и сжал Антона так крепко, что тот застонал.
2
Чем дальше затягивалась война, тем больше росла дороговизна. Городской люд платил за хлеб втридорога, в деревне наживались богачи. Беднота не вылезала из долгов, из недоимок по налогам, из кулацкой кабалы. Но не только война несла разорение крестьянскому хозяйству.
Еще по рассказам Анны во время побывки ее в городе Матвей узнал, как развернулись Юткины, Штычковы, Крутковы, купцы Голованов и Белин, как бессовестно наживались они на народной нужде. Встречаясь на базаре или на постоялом дворе с волченорскими мужиками, Матвей не раз слышал их жалобы на горькое житье-бытье.
Да, шла война – тяжелая, бессмысленная, приносившая один позор поражений. После сдачи Порт-Артура последовал разгром русской армии под Мукденом, после Мукдена – страшная гибель всего русского флота под Цусимой. В народе росло недовольство войной, дороговизной, всей нищей жизнью, неспособностью и нежеланием царского правительства облегчить положение трудового люда. По фабрикам и заводам прокатилась волна политических стачек и демонстраций, рабочие открыто выступили на штурм самодержавия. В России крестьяне громили помещичьи имения. Выходило, что одну безрассудную войну ведет царь в Маньчжурии, против японцев, другую, еще более безумную, в России – против своего же народа.
Так думал Матвей, уже убедившийся в том, что Соколовский был тысячу раз прав, когда предсказывал начало революции.
Матвей шел на постоялый двор. Дела на пасеке становились все хуже – из года в год рос долг Кузьмину. Сокращались и посевы. Надо было с кем-нибудь из земляков переслать Анне деньги.
В полутемной, наполненной сизым табачным дымом большой чайной постоялого двора купца Голованова было шумно и душно. В переднем углу сидел какой-то одноногий солдат с костылями, вокруг него толпились мужики. Матвей огляделся и, не заметив никого из земляков, сел в сторонке на лавку, прислушался. Разговор шел о войне.
– Ты скажи, служивый, – донимал солдата разбитной рыжебородый мужик, – неужто уж япошка-то так дюже хорошо воюет, что русскому с ним не совладать?
– Дай нашим такое оружие, и наши воевать хорошо будут, – ответил солдат. Помолчав немного, он продолжал: – У них одних пулеметов сколько, – а нашим приходилось почти с голыми руками в бой ходить.
– Ишь ты! А ведь держава, говорят, с гулькин нос, – вырвалось у другого мужика.
– Был у нас в роте один московский мастеровой, грамотный парень, так он нам тайком от офицеров сказывал, будто японцы десять лет всякое оружие и амуницию копили, а наши понадеялись на «ура», да и напоролись.
– А как с одевкой, с едой было?
– Из-за этого сильно не бедствовали, а вот оружия маловато было. Однова получаем приказ построиться – и к железке, винтовки из эшелона получать. Ладно, подходим. Распечатывают вагоны, смотрим… иконы. И смех и грех! Куда ж нам столько? Воевать ими не будешь.
Мужики покачали головами, невесело посмеялись.
– Ну, а офицеры дюже над солдатами строгость блюдут? – спросил опять рыжебородый, видимо гордясь тем, что направляет разговор.
– Всяких офицеров пришлось повидать. Конечно, офицеры все-таки не родня солдату, но были и обходительные. Был у нас полуротный Симов. Смельчага мужик. Бывало, идем на японцев, так он всегда впереди. Ну, таких все ж таки мало, – усмехнулся солдат, – больше свою шкуру берегут.
– А бивали солдат? – спросил кто-то из мужиков.
– Ну, а то разве бывает без этого? – ответил солдат просто. – У нас в роте батальонный одного саблей пырнул: честь, вишь, ему тот не отдал. Конечно, волнение вышло. Снесли мы все оружие в кучу: «На, мол, воюй сам». Командир кричит: «Вызову сотню казаков, всех порубят!» – «А мы, говорим, из пушек палить начнем». У нас свои часовые у орудий и денежных ящиков стояли. Дня три так жили. Потом другая часть пришла, у нас многих солдат позабрали, сказывали, будто судили их полевым судом. Верно, все больше из городских. Народ отчаянный. Попался и этот московский мастеровой. Тот, бывало, все меня спрашивал: «Скажи, Мартын, за кого ты воюешь?» – «Ну, за кого, мол, известно: за себя, за Россию». – «Чудак ты, говорит, Мартын. Ты не за себя воюешь, а за царя. Тебе от этой войны разор один».
– А что, разве не разор? Истинная правда, – разноголосо загудели мужики.
– Да, совсем обеднял народишко, – снова раздался тенористый голос рыжебородого мужика. – А жаловаться не моги, живо упекут в каталажку. Сказывали, будто зимой в Петербурге попробовал народ пойти к царю жаловаться, так, слышь, и близко ко дворцу не пустил. Всех начисто казаки порубили.
«Мартын! Неужели это Мартын Горбачев из Волчьих Нор, товарищ по солдатской службе? – Матвей сорвался с места и, протолкавшись вперед, стал пристально всматриваться в лицо одноногого инвалида. – Быть того не может! Тот был богатырь богатырем, а этот… Нет, не он! Этот и лицом старше лет на двадцать».
Солдат поднял на Матвея тоскливые глаза. Крепкие, большие руки его тряслись, верхняя губа подергивалась, точно внутри ее была пружинка. Лицо, опаленное порохом, было все в синих крапинках и напоминало дроздиное пестрое яйцо.