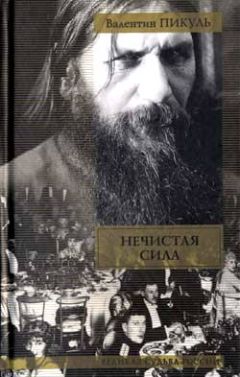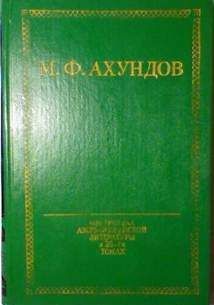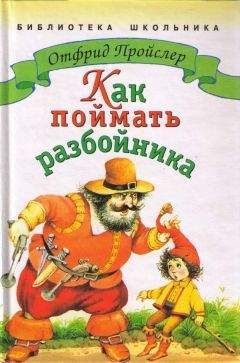Валентин Пикуль - Нечистая сила
– Слава богу, – крестились старики, – а у нас благодать зимой, и комарье не кусается. Никаких орденов не захочешь!
Подзабыли уже Распутина, вспоминался редкостно:
– Небось повесили… не вернется!
Только удивлялись иной раз – с чего живет Парашка Распутина? Как и прежде, шуршит обновами, щелкает орешками.
– С чего шелкуешь? – спрашивали.
– Живу! А вам хотелось б, чтобы я подохла?
– Да несвычно так-то. Без трудов, без забот.
– С мужа и живу! С кого же мне жить-то ишо?
– Да вить нет мужа-то. И жив ли он?
– Где-то шляется. Не ведаю. Деньга шлет, и ладно…
Опять непонятно: у этих Распутиных, чтоб они горели, всегда не как у добрых людей. Было тихо… За околицами села, в замети сыпучих снегов безнадежно погибали гумна и бани. Но вот однажды показался на тракте обоз в четыре телега. Ждать никого покровские не ждали и теперь приглядывались с большим сомнением – не надо ли беды ждать? Обоз втянулся в улицу села, впереди на заиндевелой кобыле восседал сам исправник Казимиров. Издали, гомоня, неслись мальчишки, оповещая:
– Распутин едет! Пьяный уже… вовсю шатается.
Насторожились мужики. Пригорюнились бабы, завидущими глазами встречая первую телегу добра, возле которой в богатой шубе нараспашку шагал Распутин с початой бутылью вина в руке. А рубашка на нем розовая, штаны на нем из бархата лилового, а поясок-то с кистями, а сапоги-то из хрома чистого…
– Ох и награбился! – рассуждали старики. – На большие деньги одел себя человек. Как бы и нас не загребли за него!
Но видимость исправника, состоящего при Распутине, малость утешала.
Гришка всем махал картузом.
– Землякам мое уваженыще! Уж вы помогайте мне барахло-то в избу занесть. Все ли дома в порядке? Давно не писал…
Выбежала на крыльцо Парашка с детьми – и в ноги мужу (под круглыми коленками бабы горячо и влажно растопился снег).
– Гришенька! Кормилец наш… возвернулся.
– Чего радуешься? – отвечал Распутин. – Вот я тебя вздую для порядка, чтобы себя не забывала…
Покровские густо облепили плетень. Чего только не навез Распутан! Три самовара, машинка швейная, которую ногою надо крутить, сундуки с тряпками.
Завернутую в войлок, протащили в избу гигантскую пальму в деревянной кадушке, какие стоят в богатых трактирах. А поверх последней телеги лежало нечто невообразимое, большое и черное, торчали вразброд три толстые ноги с колесиками вместо копыт… Дедушка Силантий спросил:
– Это што ж за хреновина? И на што она тебе?
– Рояля такая… Боюсь, не поймете. Одним словом, машина. Как-нибудь я вам на ней музыку сыграю.
Дюжие парни-добровольцы, предчуя даровую выпивку, осатанев от усилий, пихали рояль в избу – то передом, то боком.
– Не идет, зараза, тудыт ее в гвоздь! Что делать-то?
– Клади! – сказал Распутин, и рояль опустили на снег, парни вытирали пот.
– Покеда новый дом не отгрохал, – заявил Гришка, – пущай рояля в хлеву побережется. Тока бы корова не пужалась.
Сбросив шубу на снег, он повернулся к Парашке:
– Ну, пойдем, сука тобольская… потолкуем.
Завел супругу в комнаты и поучил вожжами. Но лупцевал на этот раз без охоты, без остервенения, как раньше бывало. Баба и сама чуяла, что бьют ее лишь «для прилику», ради домашнего порядка, а подлинного гнева нет…
Распутин напоследки протащил Парашку за волосы вдоль половицы и сказал миролюбиво:
– Накрывай на стол. Я тебе гостинцев разных привез… Селедочки-то не найдется ль в дому? Хорошо бы с молокой… Парашка упрятала волосы под платок, радостно суетясь.
– Ой, Гришенька, родненький. Чичас. Все будет.
– То-то, стерва! – сказал Распутин.
Дедушка Силантий с бельмом на глазу вперся в горницы.
– Уж ты скажи мне, Гриша, откель богатство тако? Распутин отбросил вожжи, отряхнул штаны.
– Что нам деньги! – отвечал, приосанясь. – Мы сами чистое золото…
Теперь заживу. Заходи, дед, кады хошь. Будем кофий по утрам хлобыстать.
Вышел он на крыльцо, красуясь. Между прочим, чтобы похвастаться, развернул перед толпой свой тугой бумажник.
– Чтой-то, – сказал, – уже позабыл я, сколько деньжат в дорогу брал.
Надо пересчитать.
Толпа затаила дыхание, тихо постанывая от зависти, пока в пальцах Гришки шелестели радужные пачки «катеринок».
– Ну, мужики, подходи по одному. Угощать стану!
Баб награждал конфетами полной горстью, а мужикам наливал по стакану чего-то коричневого, они выпивали и отходили прочь, делясь сомнениями:
– Не то! Не шибает… да и сладко, как патока.
– Вы еще недовольны, сиволапые! – грохотал с крыльца Распутин. – Я вас царской мадерой потчую, а вы кривитесь… Смотри!
Показывая пример, как надо пить мадеру, он запрокинул голову, разинул пасть пошире и между гнилых черенков зубов воткнул в себя горлышко бутылки.
Вся деревня замерла, наблюдая, как двигается под бородищей Распутина острый кадык, как медленно, но верно иссякает содержимое посудины. Допил все вино до конца, а пустую бутылку далеко зашвырнул в сугроб.
– Во как надо! Чай, мадера-то царская.
Ему не верили:
– Кака там царская! Небось на станции купил… Исправник Казимиров вынес на крыльцо граммофон.
– Григорья Ефимыч, куда прикажете ставить?
– Да хоша в снег… Заводи погромче!
Расписанная лазоревыми цветочками широченная труба граммофона издала шипение, а потом на все село грянул Шаляпин и оглушил покровских баб и мужиков:
Люди гибнут за металл, заа метаалл!
Сатана там правит бал, Там праавит бааааа…л!
Распутин показывал мужикам рубахи свои:
– Сама царицка и вышивала. Вот и метка ее на подоле. Все поверили, что рубахи на Распутине истинно царские. Но поняли так, что Распутин царей обворовал.
– Ой, Гриша, а не страшно ли тебе? – спрашивали.
– Да кто меня тронет-то?
Дедушка Силантий дал ему практический совет:
– Я тебе, Гришок, такое скажу. Коли наворовался от царей, так теперь скройся и затихни. Как бы не проведали, что ты тута гуляешь… Тадысь погубят. Ей-ей, во сне кишкою удавят!
– А што мне цари! – кочевряжился Распутин, хмелея пуще прежнего. – Я с ними запросто… Бывалоча, еще сплю. А ко мне уже телефоны наяривают.
Опять зовут чай пить. Без меня и не сядут. Царь мне в ноги кланялся, а царицу эту самую я на себе таскал. Хватал ее всяко. Она ничего! Не кусачая.
Исправнику Казимирову он вдруг заявил:
– А попа Ильина на селе живым не оставлю. Он, вражья сила, на меня донос накатал. Будто я жития не праведного… Ну, так я ему сейчас устрою житие! Пошли все со мной…
Распутин переколотил стекла в окнах отца Николая; несчастный священник, выставясь наружу, возмущался с плачем:
– В экий морозище, анафема, ты меня без стекол оставил. Господин исправник, почто стоите? Почто не прикажете? Да кто он таков, чтобы служителю церкви стекла выбивать?
– Ах ты, мать твою… – отвечал «старец». – Ты ишо узнаешь, кто я такой. Нонеча я стал возжигателем царских лампад, и таким гугнявцам, как ты, я не чета…
…Через годы, когда имя Распутина уже гремело по России, дотошные корреспонденты петербургских газет доискались и до бедного священника Николая Ильина, которого нашли в задвенном таежном улусе, среди якутов и политических ссыльных.
– Небось на Москве-то сейчас солнышко тепленькое, – сказал он и заплакал.
– Это Гришка сюда запек. Теперь, видать, и до смерти не выберусь на родину…
* * *
Вскоре поставил Распутин в селе Покровском новый дом для себя и своего семейства – двухэтажный, нарядный, крышу покрыл железом. Изнутри убрал комнаты коврами и зеркалами, по углам расставил пальмы и фикусы, завел множество кошек (он их любил). Стали навещать его здесь петербургские дамы в шляпах, убранных цветами, в пышнейших юбках колоколом, в белых блузочках, с зонтиками-тросточками… Спрашивали у покровских сельчан:
– Простите, а где здесь старец живет?
– А эвон… его дом завсегда отличишь от мужицкого.
Металась по улицам сумасшедшая генеральша Лохтина, Мунька Головина, на всех презрительно щурясь, записывала в книжечку афоризмы от старца Придворные дамы переодевались в крестьянские сарафаны и широкие поневы, повязывали прически платками, ходили босиком по траве. А по вечерам Гришка забирал их всех и гуртом отводил в баню, где долго и усердно все парились.
Парашка ни во что не вмешивалась, но не выносила, если дамы целовали Распутина в лицо. Покровские жители видели, как она, схватив большущий дрын, гоняла по улице генеральшу Лохтину, крича при этом:
– Не дам целовать Гришку в голову! В баню ходишь – и ходи, но в голову, мерзавка, не смей…
Почему она так высоко ценила именно голову Распутина – этого мы, читатель, никогда не узнаем!
Наезжали в Покровское и корреспонденты столичных газет. Однажды на улице села появился городской шпингалет в желтых ботинках, он тащил на своем горбу от пристани ящик фотоаппарата с треногой.